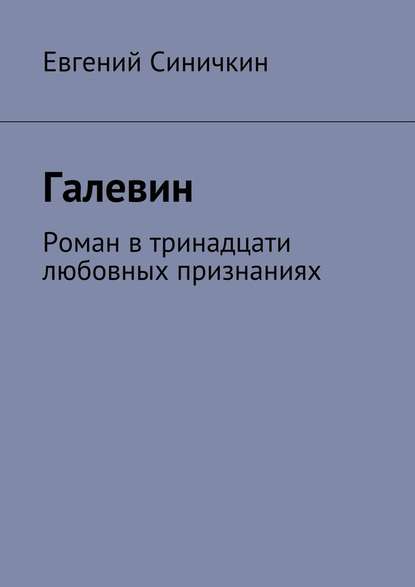По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сергей выдохнул и быстрым шагом, не забывая оборачиваться, направился к лестнице. Когда я пришёл в себя, он уже исчез. На минуту почудилось, что ничего не было. Ни Галевина, ни его чудного поведения, ни туманных, непонятных слов…
* * *
До защиты оставалось полтора часа. В воздухе слышался тяжёлый аромат разочарований. Девушки в атласных платьях манили возбуждающей открытостью ног…
Я вдруг увидел себя издалека, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем тут нахожусь? Почему развалился на скамье в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась моя жизнь!..
Что сделал я за последние годы? Написал шесть рассказов с признаками эпигонства? Отправил три безответных любовных письма? Взял четыре десятка скучных интервью? Опубликовал полсотни шаблонных заметок и выложил в блог двадцать никчемных материалов? Или сколько? И ради чего всё это? Что ждёт меня впереди? Две тысячи пирожных? Пять тысяч котлет? Сотни пар безликих туфель? Должность редактора заштатной газетёнки? Весенне-осенние поездки в Турцию или Египет? Иногда, может быть, – в Германию или Дубай?
Меня томили чувство неполноценности и лишний вес. Мысли об отсутствии таланта не давали сосредоточиться. Лишь бы написать что-то стоящее…
Я завидовал всем подряд. Генри Миллеру – потому что у него были «Тропик Рака» и Анаис Нин. Дугласу Адамсу – потому что у него было чувство юмора. Николаю Херле – потому что его голос вызывал слёзы радости. Гражданам Эстонии – потому что у них отсутствовали бездомные собаки, а такелажники лакомились шерри-бренди из крошечных рюмок. Джерарду Батлеру – потому что имел накаченный торс и юность в океане феомеланиновых кудрей…
Жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. (Полагаю, оттого что не хожу к врачам.) У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование. Наконец, у меня есть собака. Более того – две. А это уже излишество. Тогда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадёжной жизненной непригодности? В чём причина моей тоски?..
– Ты пойдёшь на митинг? – раздался девичий голос. Он вырвал меня из болота сладостных терзаний пьяного интеллигента: – В субботу? На Чистых?
– Что я там забыл?
– Биться за правду, закон, справедливость! – в Катиных глазах читались упорство и наивность.
– Стоя на площади? И аплодируя клоунам на сцене?
– Откуда в тебе эта инертность?
– От нежелания заниматься пустым делом.
– Оно не пустое. Оно правое.
– Правое? Читал я интервью одной активистки. Её задержали после митинга. Она рассказала о себе. Объяснила, почему это делает. Выяснилось, у неё четверо детей. Четверо!
– Ну и правильно. Ради будущего детей.
– Будущее – это миф. Оно, возможно, никогда не случится. Идут твои дети по улице – и вдруг пьяный козёл за рулем. В одну секунду их будущее, читай шеи, ломается под колёсами машины.
– К чему ты клонишь?
– Кать, существует только настоящее. Только оно имеет ценность. Только его можно контролировать. Она бросает детей, которым нужна мать. Которые боятся и не понимают, что же творится. Она может потратить время на реальных детей. А тратит – на иллюзорное, потенциальное будущее, которое вполне может не наступить.
– Ты предлагаешь ничего не делать?
– Напротив. Это вы на своих капустниках ничем не занимаетесь.
– Мы пытаемся искоренить коррупцию, несправедливость и самовластие. Мы хотим убрать людей, пришедших к власти незаконно.
– Единственный способ от них избавиться – убийство. Вам добровольно ничего не отдадут. Плевать они хотели на мнение десяти тысяч человек. Пока не двинетесь вооружённые на Кремль, они не шелохнутся. Когда же пойдёте – вам напомнят одну горькую страницу российской истории.
– Какую?
– Кровавое воскресенье.
– Но ведь мы должны пытаться…
– Есть другой путь. Оппозиция его, правда, не любит. Не бросать четырёх детей одних, сражаясь против коррупции чиновников. Напротив, проводить время с детьми. Учить их. На собственном примере объяснять, что не власть и деньги – главное в жизни. Власть – это не абстрактное понятие. Власть – это люди. Жадные, ополоумевшие от безнаказанности, потерявшие совесть. Чтобы уничтожить самодурство, достаточно воспитать людей, нравственному императиву которых оно будет противоречить. Очень легко собраться в кучу, позвать журналистов и, хлебая чаёк из термосов, вопить о грязных улицах. Намного труднее встать утром, разбудить детей и организовать местечковый субботник.
– И что же, оставить борьбу?
– Именно. Не бороться с режимом. Не замечать его. Забыть о его существовании…
* * *
Моя защита подходила к концу. Холодные, липкие ручейки пота сбегали по вискам. Срывались на ворот зелёной фланелевой рубахи. Во рту пересохло.
Жара. Двадцать пар равнодушных глаз. Воняет куревом и использованными тампонами. Чревопарижный смрад…
Зашёл глава кафедры. По совместительству – президент факультета. Утешительная должность, выделенная за былые заслуги.
На собраниях кафедры Засурский любил поговорить. Растягивал слова, не замечая уставившихся в мобильники и планшеты коллег. Однако его корректный тихий голос почти всегда был решающим. С ним предпочитали не вступать в дискуссии.
– Что тут у нас? – Засурский взял в руки экземпляр моего диплома. – Томас Манн? Тема патологии в ранних новеллах? Как необычно! А вы знаете немецкий язык?
– Нет.
– Как же так! – он деланно удивился. – Возможно ли писать о Манне без языка! Ой…
Мой диплом обсуждали полчаса. Научрук Балдицын и оппонент Лысенко взывали к разуму. Пытались убедить, что незнание языка на качество работы на влияет. Выиграл, как часто бывает, формализм. Мне единственному из группы поставили «четвёрку». (И дали три рекомендации в аспирантуру.)
Когда всё закончилось, научный руководитель подозвал меня к себе.
– Я тебя предупреждал, – сказал Балдицын. – Отсутствие иностранного языка здесь не прощают.
Павел Вячеславович был человеком-оксюмороном. Его сардоническая улыбка казалась доброй и ласковой. В спокойном взгляде богартовских глаз искрились ликующие огоньки.
Он добавил:
– Не унывай! Я кое-что понял за все эти годы. Литературоведение, теория и история журналистики – они мало значат. Изучать физику, биологию – вот настоящее дело. Ладно, мне ещё по делам нужно. Бывай. Увидимся.
Исключительный человек. В двух его предложениях оказалось больше смысла и мудрости, чем во всех научных трудах факультета за шестьдесят лет.
В любом случае я не унывал. Наоборот – радовался. Засурский мою работу не читал. (Дальше титульного листа не продвинулся.) Но осудил. Мне оказали великую честь – сравнили с Пастернаком и Бродским. Пусть и неосознанно…
* * *
Всему пришёл конец. Я был свободен. На улице резвились ненастье и гроза. Громыхающие капли дождя несли очищение и покой.
Посвежело. Где-то вдали светлело небо, побеждая армию кудрявых облаков. Тёплой киноварью разливался упоительный закат. Сизиф вкатил камень и мог дышать полной грудью.
Я вспомнил, что Сергей просил заехать к нему. Дорога заняла сорок минут.
* * *
До защиты оставалось полтора часа. В воздухе слышался тяжёлый аромат разочарований. Девушки в атласных платьях манили возбуждающей открытостью ног…
Я вдруг увидел себя издалека, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем тут нахожусь? Почему развалился на скамье в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась моя жизнь!..
Что сделал я за последние годы? Написал шесть рассказов с признаками эпигонства? Отправил три безответных любовных письма? Взял четыре десятка скучных интервью? Опубликовал полсотни шаблонных заметок и выложил в блог двадцать никчемных материалов? Или сколько? И ради чего всё это? Что ждёт меня впереди? Две тысячи пирожных? Пять тысяч котлет? Сотни пар безликих туфель? Должность редактора заштатной газетёнки? Весенне-осенние поездки в Турцию или Египет? Иногда, может быть, – в Германию или Дубай?
Меня томили чувство неполноценности и лишний вес. Мысли об отсутствии таланта не давали сосредоточиться. Лишь бы написать что-то стоящее…
Я завидовал всем подряд. Генри Миллеру – потому что у него были «Тропик Рака» и Анаис Нин. Дугласу Адамсу – потому что у него было чувство юмора. Николаю Херле – потому что его голос вызывал слёзы радости. Гражданам Эстонии – потому что у них отсутствовали бездомные собаки, а такелажники лакомились шерри-бренди из крошечных рюмок. Джерарду Батлеру – потому что имел накаченный торс и юность в океане феомеланиновых кудрей…
Жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. (Полагаю, оттого что не хожу к врачам.) У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование. Наконец, у меня есть собака. Более того – две. А это уже излишество. Тогда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадёжной жизненной непригодности? В чём причина моей тоски?..
– Ты пойдёшь на митинг? – раздался девичий голос. Он вырвал меня из болота сладостных терзаний пьяного интеллигента: – В субботу? На Чистых?
– Что я там забыл?
– Биться за правду, закон, справедливость! – в Катиных глазах читались упорство и наивность.
– Стоя на площади? И аплодируя клоунам на сцене?
– Откуда в тебе эта инертность?
– От нежелания заниматься пустым делом.
– Оно не пустое. Оно правое.
– Правое? Читал я интервью одной активистки. Её задержали после митинга. Она рассказала о себе. Объяснила, почему это делает. Выяснилось, у неё четверо детей. Четверо!
– Ну и правильно. Ради будущего детей.
– Будущее – это миф. Оно, возможно, никогда не случится. Идут твои дети по улице – и вдруг пьяный козёл за рулем. В одну секунду их будущее, читай шеи, ломается под колёсами машины.
– К чему ты клонишь?
– Кать, существует только настоящее. Только оно имеет ценность. Только его можно контролировать. Она бросает детей, которым нужна мать. Которые боятся и не понимают, что же творится. Она может потратить время на реальных детей. А тратит – на иллюзорное, потенциальное будущее, которое вполне может не наступить.
– Ты предлагаешь ничего не делать?
– Напротив. Это вы на своих капустниках ничем не занимаетесь.
– Мы пытаемся искоренить коррупцию, несправедливость и самовластие. Мы хотим убрать людей, пришедших к власти незаконно.
– Единственный способ от них избавиться – убийство. Вам добровольно ничего не отдадут. Плевать они хотели на мнение десяти тысяч человек. Пока не двинетесь вооружённые на Кремль, они не шелохнутся. Когда же пойдёте – вам напомнят одну горькую страницу российской истории.
– Какую?
– Кровавое воскресенье.
– Но ведь мы должны пытаться…
– Есть другой путь. Оппозиция его, правда, не любит. Не бросать четырёх детей одних, сражаясь против коррупции чиновников. Напротив, проводить время с детьми. Учить их. На собственном примере объяснять, что не власть и деньги – главное в жизни. Власть – это не абстрактное понятие. Власть – это люди. Жадные, ополоумевшие от безнаказанности, потерявшие совесть. Чтобы уничтожить самодурство, достаточно воспитать людей, нравственному императиву которых оно будет противоречить. Очень легко собраться в кучу, позвать журналистов и, хлебая чаёк из термосов, вопить о грязных улицах. Намного труднее встать утром, разбудить детей и организовать местечковый субботник.
– И что же, оставить борьбу?
– Именно. Не бороться с режимом. Не замечать его. Забыть о его существовании…
* * *
Моя защита подходила к концу. Холодные, липкие ручейки пота сбегали по вискам. Срывались на ворот зелёной фланелевой рубахи. Во рту пересохло.
Жара. Двадцать пар равнодушных глаз. Воняет куревом и использованными тампонами. Чревопарижный смрад…
Зашёл глава кафедры. По совместительству – президент факультета. Утешительная должность, выделенная за былые заслуги.
На собраниях кафедры Засурский любил поговорить. Растягивал слова, не замечая уставившихся в мобильники и планшеты коллег. Однако его корректный тихий голос почти всегда был решающим. С ним предпочитали не вступать в дискуссии.
– Что тут у нас? – Засурский взял в руки экземпляр моего диплома. – Томас Манн? Тема патологии в ранних новеллах? Как необычно! А вы знаете немецкий язык?
– Нет.
– Как же так! – он деланно удивился. – Возможно ли писать о Манне без языка! Ой…
Мой диплом обсуждали полчаса. Научрук Балдицын и оппонент Лысенко взывали к разуму. Пытались убедить, что незнание языка на качество работы на влияет. Выиграл, как часто бывает, формализм. Мне единственному из группы поставили «четвёрку». (И дали три рекомендации в аспирантуру.)
Когда всё закончилось, научный руководитель подозвал меня к себе.
– Я тебя предупреждал, – сказал Балдицын. – Отсутствие иностранного языка здесь не прощают.
Павел Вячеславович был человеком-оксюмороном. Его сардоническая улыбка казалась доброй и ласковой. В спокойном взгляде богартовских глаз искрились ликующие огоньки.
Он добавил:
– Не унывай! Я кое-что понял за все эти годы. Литературоведение, теория и история журналистики – они мало значат. Изучать физику, биологию – вот настоящее дело. Ладно, мне ещё по делам нужно. Бывай. Увидимся.
Исключительный человек. В двух его предложениях оказалось больше смысла и мудрости, чем во всех научных трудах факультета за шестьдесят лет.
В любом случае я не унывал. Наоборот – радовался. Засурский мою работу не читал. (Дальше титульного листа не продвинулся.) Но осудил. Мне оказали великую честь – сравнили с Пастернаком и Бродским. Пусть и неосознанно…
* * *
Всему пришёл конец. Я был свободен. На улице резвились ненастье и гроза. Громыхающие капли дождя несли очищение и покой.
Посвежело. Где-то вдали светлело небо, побеждая армию кудрявых облаков. Тёплой киноварью разливался упоительный закат. Сизиф вкатил камень и мог дышать полной грудью.
Я вспомнил, что Сергей просил заехать к нему. Дорога заняла сорок минут.