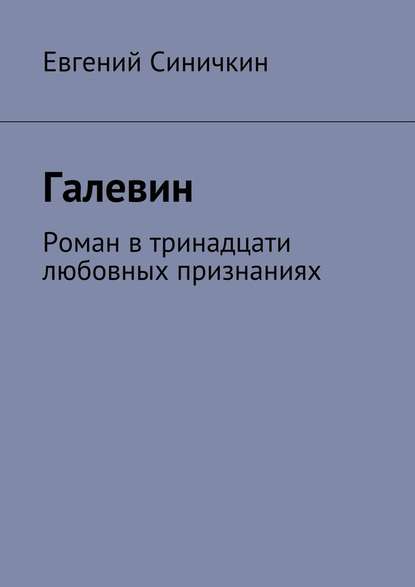По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Двое держали Томаса, чтобы он не дёргался; ремнем перевязали пасть. Дима, приложив нож к правой ушной раковине и оттягивая ухо второй рукой, не спеша повел лезвие вниз. Брызнула кровь. Томас вопил и бился в конвульсиях, пытаясь освободиться. В его устремлённых на меня, по-человечески грустных глазах, из которых струились безнадёжные, непонимающие слезы, отражался немой укор: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете? Я ничего плохого не сделал вам. Я ваш друг и брат». Расправившись с правым ухом, Дима перешел к левому, а затем – к хвосту.
– Смотри, как дёргается!
– Это намного веселее, чем лягушек в лесу резать!
– Ты гляди, как псина фыркает, аж пар из ноздрей валит!
Томас истекал кровью, беспомощно скулил и задыхался; они не прекращали смеяться.
– Ну вот, – с улыбкой сказал Дима, когда закончил, – теперь у нас есть приличная собака. С купированными ушами и хвостом. Всё как в лучших питомниках.
– Паспорта не хватает, – вставил кто-то из ребят.
– Верно, – согласился Дима, – документы нужны. А лучшие документы – это те, что подписаны кровью. Так мой отец говорит.
Опершись на колено и приблизившись к Томасу, Дима мгновенно, как профессиональный мясник, перерезал ему горло.
– Пёсик, ты с чернилами переборщил, – сказал Дима и расхохотался. Остальные заржали вместе с ним. Осмотрев одежду и убедившись, что на ней нет следов крови, Дима добавил: – Шавку в контейнер выбросите, нечего этому говну на дороге лежать.
Жирдяй, державший меня, с проворством легкоатлета вскочил и схватил бездыханное тело Томаса; мгновение спустя маленький трупик моего щенка, прибывшего если не из созвездия Гончих, то наверняка Самых Верных Псов, словно сдувшийся баскетбольный мяч, полетел в бак с картонными упаковками и тухлыми объедками.
– Понравилось, педик? – спросил Дима. – Будет тебе урок – не надо проявлять к нам неуважение. Уважение – это самое главное. Так мой отец говорит. Тебе стоит запомнить.
Прозвучал звонок, возвещавший начало занятий, расточительный и бессердечный в своей громкости. Ребята, чертыхаясь и толкаясь, подхватили разбросанные портфели и побежали в школу.
– Чёрт, опоздали же, – бурчали они, забыв обо всём.
– Сейчас нам двояки за прогул влепят, блин!
– И родителей в школу вызовут. Вот же задница!
– Лишь бы Марья Ивановна ещё не пришла.
– Отче наш, сущий на небесах… – забормотал едва слышно Дима, свирепо крестясь и поглаживая пальцами широкое нательное распятие, висевшее на золотой цепочке.
Я вытащил бездыханное тельце из мусорного контейнера, может быть, послужившего смертным ложем не одному беспризорному псу, бережно убрал с его заплаканной, окровавленной мордочки гниющую банановую кожуру и отнёс Томаса на вершину близлежащего холма, где росла одинокая берёза, приветливо раскинувшая обнаженные ветви. Как грозный, неподкупный судия, взирающий с высоты на грешников, чьи мысли и дела ему известны наперёд, эта бетула с молчаливой строгостью оценивала копошащихся под ней людей, являвшихся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Величавая, повидавшая мир, склонившаяся под тяжким гнётом неутешительных дум, она показалась мне надёжным проводником поруганному щенку, первым стражем дремучего, мрачного, угрюмого леса, в котором стынет мозг и ужас тайны длится. Обдирая руки до мяса, ломая почерневшие ногти, в полузабытьи, в спасительном самозабвении, я пробивался через толщу задубевшей грязи. С каждым поддавшимся сантиметром промёрзлого грунта отмирал очередной кусочек моей больной души. Из могилки, куда я заботливо, несмотря на дикую боль в трясущихся руках, положил Томаса, на меня глядела безмятежная мордочка с матовым чёрным носом. Когда с последним омертвелым куском земли погребальный процесс подошёл к концу, я откинулся к стволу берёзы. Хотелось плакать, но слёз не было. Внутри меня разверзлась пропасть, в которой зияла пустота. Я заглянул в нее, и в моей душе, обернувшейся выжженной пустыней, дали первые всходы цветы зла и анчарное древо невиданной ярости.
Могу предположить, что их яд, капавший сквозь кору, к полудню растоплявшийся от зноя и застывавший ввечеру густой прозрачною смолою, безвозвратно отравил бы мою натуру намного раньше, чем это произошло в действительности, если бы тем душным летом, сломленный и нелюдимый, я не попал в деревню к бабушке по линии отца, с которой мои родители не общались с женитьбы. Подобно многим другим матерям, не умеющим отличать родительскую любовь от бесконтрольного чувства собственничества, она категорически не одобряла выбор своего молодого сына, считая себя вправе, пока существует мир, принимать за него все решения и надеясь на более удачную, выгодную и перспективную партию; и что уж греха таить – в этом случае семена её эгоистического недовольства прорастали на благоприятнейшей почве. Не понимаю, по какой причине они решили возобновить отношения, казалось бы, почившие в бозе почти с десяток лет назад, однако после окончания первого класса, когда, задыхаясь от нашествия вездесущего тополиного пуха, мы на три месяца прощались со школой, весело подбрасывая в воздух воображаемые чепчики, меня отправили, снабдив непомерно большим чемоданом из кожзаменителя, тяжёлым и обтрёпанным, в Салтыковку.
Невольно подметая чемоданом подрагивающий пол вагона, оплёванный, засыпанный бычками и шелухой от семечек, заставленный пустыми бутылками, некогда терпевшими горькую лотерейность палёной водки, и пузатыми клетчатыми баулами, главными пассажирами российских поездов любой дальности следования, чихая из-за ядрёного запаха перегара, разносившегося от загорелых щетинистых лиц, по которым текла булькающая слюнка крепкого сна, я выбрался, задев плечом курившего в тамбуре высокого человека в коричневом макинтоше, на щербатый перрон, обрамлённый по флангам трухлявыми деревянными поддонами, бездарно игравшими роль перехода через рельсы. Ангелы не пели с небес, а в руках моих не было чекушки с кубанской. Бабушка Тоня, или, как почтительно называли её соседи, Антонина Васильевна, дожидалась меня возле остановки первого вагона. Это была осанистая женщина, широкая и плотная, с массивными ладонями, покрытыми толстой, жёсткой как наждачная бумага кожей, увенчанной шрамами и оставшимися после мозолей рубцами, малость сгорбленная, коротконогая, что, впрочем, никак не сказывалось на скорости её передвижений, по которой некоторые издалека принимали бабушку за молодую девушку, с копной тонких седых волос, с смуглым лицом человека, много времени проведшего под палящим солнцем, с глазами большими и строгими, прятавшимися под богатейшими ресницами, в дерюжном тёмно-жёлтом сарафане, безмерно далёком от вычурных поделок ведущих модельеров, в тонкой спортивной ветровке бежевого цвета, прикрывавшей плечи, – проще говоря, настоящая крестьянская матрона, воспетая Некрасовым и Дюпре.
– Бог ты мой! – всплеснула она руками, когда я приблизился. – Я-то понять не могла, кто кого тащит: ты чемодан или он тебя. Додумались же они ребёнку такую махину всучить. Тебя в нём хоронить можно, прости господи.
Она выхватила чемодан и, смотря вслед удалявшейся электричке, погладила меня по волосам.
– Волосы почти как у отца, – проговорила она задумчиво и, присмотревшись к чертам моего лица, добавила: – А глаза-то! Глаза! Один в один! Как у Васеньки! Эх, ну я хотя бы уверена теперь, что ты мой внук. Не нагуляла тебя эта прошмандовка неизвестно с кем. Ладно, пойдём к дому?
Она подмигнула, и мы неторопливо спустились с платформы, перешли на противоположную сторону, умудрившись не переломать ноги на шатком мостике из поддонов, прогибавшемся при каждом шаге, как поверхность надувного батута, и, миновав переполненные мусорные баки, ржавые и прохудившиеся, попали на просторную улицу. Поэтически настроенный человек, увлекающийся архитектурой, сравнил бы эту улицу, вечно пребывавшую в благословенной тишине, с нефом длинного готического собора, успокаивающего отсутствием горластых посетителей, впившихся алчным взглядом в экраны видеокамер, фотоаппаратов и мобильных телефонов; по краям улицы, восхищая богатым разнообразием узоров на ароматной коре, росли высоченные деревья, походившие на канеллюровые колонны, пышной капителью мощных ветвей распускавшиеся к верхушке, на которой шелестел тёмно-изумрудный антаблемент кроны; под уютной тенью колонн-деревьев в многочисленных импровизированных трансептах расположились разноликие участки-капеллы с выставленными на передний план, как на освещённую рампу, святыми и кумирами, столь почитаемыми в наше время, – ремонтируемыми автомобилями, отпущенными с конвейера, пожалуй, в сталинские времена, отдающими навозом грядками, где тыква браталась с картошкой, покосившимися мангалами, изъеденными временем и нехваткой ухода, раздолбанными телевизорами, утюгами, пылесосами, чайниками, плитами, избавиться от которых не позволяли жалость, ностальгия и авось-затейник, призывавший верить, пусть и подспудно, в чудесное воскрешение всей этой бытовой рухляди по мановению волшебной палочки расщедрившегося случая; таким образом, путь к дачному дому представлял собой череду средокрестий, обеднённых недостатком величественных башен, но позволявших вдоволь насладиться умиротворяющими сценками деревенской жизни, полусмешными, полупечальными, простонародными, в каком-то смысле идеальными, и убаюкивающим, какие бы страсти ни кипели в душе, шумом вечно зеленеющих тёмных дубов, отечески склонявшихся над уставшим путником. Венчающий наш крестный ход алтарь, пред которым в течение восьми следующих летних литургий, смиренно пав ниц, я причащался мягкостью травы, умывшейся росой, и бодрым постукиванием веток клёна по оконному стеклу, был унылой избушкой, сложенной из брёвен, неравномерно покрытых зелёной краской. Избушка состояла из трёх небольших комнат, обставленных ветхими шкафами, комодами с неполным комплектом ящиков, низкими кроватями, отличавшими от примитивных раскладушек лишь наличием дистрофичной дощечки в изголовье, чумазой газовой плитой, с двумя неработающими конфорками из четырех и газовым вентилем, державшимся на честном слове Эпименида, и холодильником «Бирюса», крепившимся из последних сил. На аляповатой тумбочке в спальне гордо красовался допотопный салатовый «Индезит» – объект совсем не марксистских воздыханий типичного советского коммуниста, – все ветеранские возможности которого ограничивались шипящей трансляцией передач трёх главных аббревиатурных каналов страны; когда дождливыми летними ночами свет уже был выключен, он переносил меня в светлый, безумный, бесшабашный мир семи частей «Полицейской академии», с неизменной пунктуальностью гитлеровских поездов каждый год шедшей по НТВ. Второй этаж, на который вела примыкавшая к дому крытая обуженная лестница, образовывал чердак-недоносок, крохотный, всегда пыльный, захламлённый, не знавшее света пристанище орд пауков, одним видом своих волосатых лапок приводивших меня в состояние вертикальной каталепсии; неуместной декоративностью этот триумф сельской китчевости напоминал мезонин с балконом. Шестисоточный участок окаймляло ограждение из рабицы, позволявшее как наблюдать за проходившими людьми, так и быть объектом пристального наблюдения; если бы вдоль забора не кустились ежевика, малина и красная смородина, создававшие минимальное укрытие от посторонних глаз, я бы чувствовал себя участником реалити-шоу, потерявшим последние капли стыдливости; калиткой служила железная конструкция из рамы с прутьями, сваренными крест-накрест, и задвижки, на которой позвякивал миниатюрный навесной замок. На заднем дворе, куда вела зигзагообразная, чтобы обогнуть парник с огурцами и посадки кабачков, дорожка, выложенная обыкновенной тёмно-серой плиткой, покосился очковый туалет, или сортир, как в попытках придать изысканности и французского шарма привыкли называть это насмешливое, но незаменимое сооружение; обитый искорёженными металлическими листами и необработанными досками, размокшими от сырости, не пропускавший солнечные лучи, с крестовиками, плетшими адские круги серебристой паутины во всех четырёх углах, с невыносимыми миазмами, поднимавшимися из сакральной дыры, казавшейся жерлом вулкана, которое поглотило заточенное в объятиях пучеглазого Голлума Кольцо Всевластия, туалет был для меня леденящим кровь убежищем гадких чудовищ; минуты той самой естественной из потребностей, которую Леопольд Блум упоённо, рассевшись королём на троне, удовлетворял, почитывая журнальчик и думая о чистоте костюма для похорон, были для меня мучительным прыжком веры в зловещую неизвестность: по полчаса, всеми мышцами борясь с позывами плоти, я бродил возле скрипучей двери, заглядывал внутрь, тревожно осматривал владения туалетного Саурона, отслеживал перемещения сонных пауков, а затем захлопывал дверь, ощущая поднимавшийся по спине холодок; наконец, набрав в лёгкие воздуха, будто ныряльщик, я забегал в мрачный короб и, поёживаясь, содрогаясь, справлял терзавшую меня нужду. Справа от участка, горделиво возвышаясь над муравьиной суетностью рода людского, вздымался могучий и благородный, как мифический Иггдрасиль, дуб, необхватный, непоколебимый, грандиозный, будто многовековая секвойя, раскинувшийся шатром сочной, тёмной зелени; расхаживая под его листвой, сложенной в причёску кого-нибудь из «битлов» и надёжно укрывавшей меня от мира, я был князем Болконским, упивавшимся горькой прелестью противоречивой жизни. Если обойти дом с противоположной стороны, забредя в ясеневую рощу, предварявшую протяжённый лес, можно было оказаться напротив прудика, имевшего двадцать-тридцать метров в диаметре; позеленевший от водорослей, окутавших мутной плёнкой всю его когда-то блестящую гладь, пруд совершил привычную для глубинки трансформацию: из достопримечательного украшения местности превратился в раздражающую свалку, куда обленившиеся жители сбрасывали накопившийся мусор – от перевязанных узлом полиэтиленовых мешков до сломанного грузовика, чья побитая кабина опасливо, как нашкодивший ребёнок из-за угла комнаты, выглядывала из тинистой толщи отравленной воды. На холмах позади пруда вечерами собирались местные подростки; водрузив на самодельный деревянный столик двухлитровые бутыли с дешёвым пивом и джином-тоником, они прогоняли прочь, стараясь забыться, невинную юность, которую даже не успели узнать; укрывшись в дружелюбных сумерках ночи от света и безмерности боли, они хоронили в шипастых кустах дикого крыжовника, в буйных зарослях смятой травы, облепивших берег пруда, тоску и страх, мечты и горе, выставляя напоказ истошную обнажённость несформировавшихся душ и тел; притаившись, бывало, за услужливыми деревьями, я следил за оргиями, рождёнными не ослепительным пламенем страстей, не очищающей жаждой знаний, которые открывают самую сущность жизни и помогают проникать в неё, не гедонистической тягой к удовольствиям, но пожирающим изнутри отчаянием; их пьяные разговоры, бессмысленные споры, в которых слышались отголоски бунта, лишённого идеалов и, значит, разрушительно-нигилистического, эти глупо-торгашеские фразы, противные, как мелочные приставания, не задерживались надолго в моей памяти: очаровывали движения, волнительные, неуклюжие, топорные, под личиной разудалого восторга маскировавшие, как стихотворения Лорки, поэзию сомнамбулического страдания, – новые дети подземелья, плясавшие на могилке, каждую весну зеленевшей свежим дёрном и ядовитой цикутой.
Кто-то обвинит меня в том, что я чересчур подробно, обстоятельно и витиевато описываю малоинтересные детали своей жизни. Но разве будут понятны мои чувства, если я не расскажу о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго не мог отрешиться от юношеской наивности? Разве прогулки по немому лесу, осиянному прорывавшимися сквозь плотные преграды стволов солнечными лучами, игры на руинах неизвестного здания, чьи бордовые кирпичи в моём воображении становились развалинами Камелота, расслабленный отдых на залитой светом равнине, в центре которой искрились приветливые воды озера, неумелая езда на четырехколёсных роликах, оборачивавшаяся синяками, ободранными ладонями и разбитыми коленками, великие сражения с участием пластиковых солдатиков, происходившие под стволами клёнов и в недрах кучи песка, сваленного в двух шагах от участка, – разве всё это не выстраивало, тростинка за тростинкой, веточка за веточкой, невзрачный шалаш моей личности?
Самый младший из здешних ребят был старше меня на четыре года. Для их сложившейся за долгие годы компании я был чужаком, пришельцем, шпионом, от которого следовало держаться подальше. Они терпели меня возле себя лишь потому, что так просила бабушка, пользовавшаяся в районе непререкаемым авторитетом Вито Корлеоне. Однако именно эти ребята, издевавшиеся над моим именем, через день нажиравшиеся вусмерть, как крепостные мужики, рукоблудившие всем скопом в ветхом сарайчике, где спёртый воздух вызывал головокружение, открыли мне, хотя сами того не ведали, мир поразительных чудес.
Заводилой ватаги был пятнадцатилетний мальчик по имени Витя, худосочный, вытянутый, смахивающий на жердь, рыжий, с обсыпанным веснушками, бледным лицом, остроухий и с неизменной дымившейся сигаретой, зажатой в костлявых пальцах. На территории участка его родителей стояли параллельно два дома: семья жила в новом – большом, просторном двухэтажном строении, с трёх сторон обласканном курчавыми лианами девичьего винограда, а старый, лилипутскими габаритами вызывавший сравнение с домиком для нежеланных гостей, теснился у досочного забора, забытый и плевельный, как бедный родственник. Этот обшарпанный домик давным-давно возвёл дед Вити, скончавшийся за два года до моего первого приезда на дачу. К домику от синей калитки с колокольчиком без язычка, которую заколотили после смерти деда, ползла выверенная, как по линейке, вытоптанная дорожка; слева от нее, вздувшаяся от влажности и облюбованная слизняками, перевернулась набок конура для кавказской овчарки, когда-то погибшей под колёсами поезда; дорожка заканчивалась у лепреконского двухступенчатого крылечка, предназначение которого было объято тайной, потому что уместить там даже кухонный табурет, не говоря уже о чиппендейловском кресле и тем паче достархане, накрытом на топчане, являлось миссией невыполнимой для всех, за исключением, разумеется, Тома Круза. В дом никто не ходил. Обычно деревянная дверь, при жизни деда вкусного апельсинового цвета, а после покрывшаяся серо-буро-малиновыми проплешинами, с шаровидной ручкой, неосторожное прикосновение к которой могло привести к появлению в ладони парочки глубоко засевших заноз, была заперта на ключ, но однажды, рядовым июльским деньком, когда палившее солнце сжалилось над нами и удалилось на перекур за дождливые тучи, асфальтовые, низкие, свирепые, как бык на корриде, а у соседей залаял блондинистый алабай, предчувствовавший неминуемую грозу, Витя впустил нас в угрюмое помещение, поделённое на две равные комнаты – кухню и спальню. Выцветшие бистровые шторы не пропускали уличный свет, лампочки перегорели, поэтому внутреннее убранство было погружено в безмятежную тьму заброшенного дома. Резкий застоявшийся воздух, как газ, вызывал сухость во рту и резь в глазах. Простенькие белые обои со следами грязных пальцев и кетчупа вздулись и отклеивались. Ни звука. Дом производил удручающее и гнетущее впечатление обречённой на гибель усадьбы Ашеров в миниатюре. Ребята решили не задерживаться: подвигав мебель и порывшись в кухонных шкафчиках, они вышли наружу. Я остался один. Мне не хотелось уходить. Смутное предвкушение открытий, заставлявшее трепетать весь организм, влекло меня в спальню – так, верно, направляют на безумства голоса, звучащие в голове шизофреника. Я одёрнул шторы – чуть-чуть посветлело. На прочной сосновой тумбе в углу спальни, едва превосходившей размерами комнатный альков, громоздился граммофон с внушительным железным рупором. За дверцей тумбы, сложенные ровной стопкой, лежали в прекрасно сохранившихся конвертах пластинки. Не ведая по молодости лет, к какой святыне дерзнул прикоснуться, я вытащил верхнюю. С четвёртой попытки я разобрался в устройстве граммофона и запустил зашипевший виниловый диск. Никогда до того момента я не понимал искусства музыки священной: выступления низкопробных эстрадников, которые мама смотрела по телевизору, и рванная, дёрганная, шабашная танцевальная музыка, игравшая в школе по праздникам, отпугивали меня безжизненным однообразием и демонстративной грубостью, – но в те мгновения мой вслух впервые различил в ней чей-то голос сокровенный. Играла запись E lucevan le stelle 1957-го года в исполнении Франко Корелли. Его дивный тенор, переливчатый, как северное сияние, сладко-горький, как тёплый поток радостных слёз, сокрушающий, как гигантское торнадо, олицетворял собой совершенную, всепобеждающую красоту, которая никем и никак не может быть опорочена; когда шелестом летнего платья, скрывавшего под собой мягкую, как карамель, девственную кожу прелестной возлюбленной, раздалось нежнейшее диминуэндо на верхнем ля в слове disciogliea, вечное, как небытие смерти, мой мир рухнул в бездонную пропасть и через мгновение, продлившееся миллионы лет, вознёсся к небесам; в душе погас свет, как уличный рожок без газа, и разгорелся вновь, как кровавый раздор вражды минувших дней в маленьком итальянском городке; злость, глодавшая меня изнутри, слабела и отступала, уносимая прочь каплями дождя, хлеставшими по крыше визгливыми кнутами надсмотрщика; я почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь.
На следующий день мечта об оперной сцене поработила мой мозг, как инфекция энцефалита. Я познал одной лишь думы власть, одну – но пламенную страсть, жившую во мне червём и сгрызавшую душу. Остервенелой ненасытностью, требовавшей, будто кровожадный демон, всё новых жертвоприношений, я приводил в негодность десятки дорогих моему сердцу пластинок. С заведенным упорством механической Олимпии из «Сказок Гофмана», хрипя, порыкивая и задыхаясь, я выводил срывавшимся, тремолировавшим голосом выученные назубок куплеты, пытаясь быть одновременно поэтом Рудольфом, князем Елецким и королем Рене. Вскоре я к своему ужасу обнаружил, что грозная, жестокая судьба в порыве злорадства лишила меня драгоценного дара – музыкального слуха и чувства ритма. Подобно страдающему алексией, обречённому с печалью откладывать в долгий ящик призывно распахнутые страницы книги, которую так хочется прочитать, понять и сберечь самыми яркими фрагментами в закромах памяти, мне приходилось терзаться трагедией неискоренимого врождённого несовершенства, рвавшего на части, словно проголодавшийся гепард, догнавший захромавшую антилопу, радужные мечты о светлом будущем. Как ни старался, как ни хотел, как ни заставлял себя, проклиная за бесталанность и убогость, я не мог запомнить мелодию, секунды назад волновавшую меня, как первая любовь, не мог попасть в ноты, когда напевал, не мог даже различить в бушующем океане звуков тихую гавань вступления, когда нужно начинать петь. Мне позволяли любоваться роскошным фасадом сказочного дворца музыки, однако инкрустированная драгоценными камнями дверь, охраняемая золотыми статуями львов искуснейшей работы, была для меня навсегда закрыта. Когда в шестом классе нас учили играть на свирели, моя необыкновенная музыкальная тугоухость стала достоянием общественности: я был единственным из двадцати пяти человек, кто упорно, как будто нарочно, не попадал в простенький ритм короткой пастушеской песенки. Надо мной насмехались люди, считавшие Марио Дель Монако основателем французской футбольной команды, которую он, по их мнению, подправив ударение, назвал в свою честь, и вульгарно искажавшие фамилии Марии Каллас и Аурелиано Пертиле. Учитель музыки, облокотившись на рояль и поглаживая гусарские усы, качал головой, называл меня лентяем и жаловался матери, которая награждала меня, неблагодарного шелопута, крапивными, обжигающими оплеухами. От досады, сидя в комнате на кровати, я бился затылком о стену и откусывал надоедливые заусенцы. Беспомощность убивала меня. Но что я мог сделать? Как мне было изменить себя? Неужто одно желание внесло бы корректировки в мой генотип или работу височных долей? Разве я просил, чтобы медведем, не просто наступившим мне на ухо, а станцевавшим на нем чечётку, оказался Билл Робинсон?
В поисках заступника, верного до могилы, я бросился в велеречивые объятия классической литературы. Я познакомился с этой старой, но неувядающей девой в возрасте десяти лет. Наша встреча не отличалась захватывающими подробностями. Безоблачное июньское небо, как заядлый вуайерист, светило бесстыдной наготой, большой дуб, отбрасывавший тень на участок, брюзжал по-стариковски, хаотичными хлопками рукавичных листьев жалуясь небесам, прекратившим дотационные чичеры, на нищенскую в осадочном эквиваленте пенсию, а я, борясь со скукой, шарил по дачным шкафам. В нижнем ящике облезшего комода, поначалу не желавшем поддаваться, ютилась горстка неновых книг. Моё внимание привлекла бежево-жёлтая обложка, на которой был изображён со спины некий паренек в повернутой козырьком назад красной бейсболке, стоявший под каплями дождя. «Над пропастью во ржи» заняла в моей жизни такое же место, какое занимает Библия у ревностных христиан: я держал её в прикроватной тумбочке, читал и перечитывал, делал пометки тонким, будто нановискерным, грифелем карандаша, искал в ней ответы и помощь. Холден стал для меня реальным человеком – близким другом и названным братом, с которым я никогда не был одинок. Я встретил родственную душу, юного байронического странника, гонимого двуличным и неотёсанным миром взрослых. Как Вергилий, этот мудрый дантовский психопомп, Холден вёл меня по адским тропам вражды и разочарований, не оставляя ни на минуту. Обретя утешение в едкой сатире Рабле и де Костера, в масштабности книг Гюго и Сенкевича, в болезненной чувственности Манна и Верлена, в стилистической пышности Толстого и Пруста, в поразительной глубине образов у Бальзака и Гамсуна, в неиссякаемой доброте Гаршина и Короленко, в музыкально-прозаической концентрированности творений Джойса и Маркеса, в интеллектуальной силе Фаулза и Бродского, я начал отдаляться от мира, от людей, от природы, возводя изощрённые преграды в неприступной башне из слоновой кости, в которую добровольно, отвергая наставления Гессе, себя заточил. Я читал бессистемно, как начётчик; набрасывался на книги, как Кощей на злато; я поглощал художественные миры, как огромная чёрная дыра. Книги служили мне маяком, который направлял по жизни, и спасательным кругом, не позволявшим сгинуть в пучине повседневных избиений и издевательств. Я кидался во вселенную книг, словно в омут, тонул в невыразимом великолепии и всплывал навстречу звёздам. Набоков советовал читать не торопясь, потягивая литературу, будто дорогое вино, но его слова казались мне дикими, потребительскими и невыполнимыми. Словно наркоман в ломке, дорвавшийся до дозы, такой желанной и близкой, обещавшей неземные удовольствия, я не мог остановиться.
– Какого чёрта ты всё сидишь за своими книжками! – бесилась мама. – Пустая трата времени. Лучше бы нашёл себе друзей. Ты больной: тебе бумажки дороже людей.
Я не знал, как объяснить ей, что у меня сотни друзей, и таких, каких мне ни за что не сыскать в школе или во дворе, что в час любви, объятий, снов мне сладостно придаваться чтению книг великих мудрецов. Она считала жизнью посиделки с подружками под аккомпанемент однооктавных завываний очередного плохого шансонье, закалифшегося на пару концертов, и громкого плеска бесцветного вермута. Я бежал этого существования, звучавшего в моих ушах гимном пошлости и мещанства. Я желал удрать от прозы жизни, сделаться анахоретом, как Сэлинджер или Пинчон, чтобы создавать поэзию искусства. Я исписывал тетрадки и учебники, газеты и туалетную бумагу, выл и рыдал из-за несовершенства формулировок, примитивности мыслей, плоскости образов, беспомощности сюжетных линий. Я уверился в собственной бездарности и безнадёжности. Я не сомневался, что не смогу, как бы ни изводил себя пустыми чаяниями, сотворить подлинную красоту. Я представлял себя многоликим Янусом от литературы: во мне уживались молодой писатель без стиля и молодой писатель без идей, прозаик, жадный до поэтических красот, и прозаический поэт. Тем не менее, как Чарский, я только тогда и знал истинное счастье, когда, терзаемый сомнениями и возбуждённый вдохновением, запирался в своей комнате и писал с утра до поздней ночи, а затем и всю ночь до утра, после чего, бледный, разгорячённый, словно больной гриппом, ослабший, выжатый, без чувств падал на кровать и забывался целительным сном без сновидений.
Чем старше я становился, тем явственнее тяготила меня потребность в женском внимании. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. С завистью я взирал на уверенных в себе одноклассников, властно обнимавших точёные девичьи плечи, уверенно продвигавшихся рукой к упругим грудям, притягательными бугорками выдававшимися из-под белоснежной блузки с накрахмаленным воротничком, подчёркивавшим изысканную тонкость лебединой шеи; целующиеся парочки, страстно обнимавшиеся, опираясь на загаженный подоконник, заставляли меня всякий раз во время движения по школьным коридорам упирать в расчерченный подошвами линолеум стыдливый взгляд пунцового лица; коротенькие юбчонки, почти не прикрывавшие аппетитные ягодицы, и разноцветные чулочки в горизонтальную полоску, тянувшиеся выше колен, обособляя волнительную стройность прямых ножек, деспотически завладевали моим воображением. Мне не верилось, что обворожительная девушка может влюбиться в такого неудачника и изгоя, как я. Опасаясь попасть в неловкую ситуацию, показаться смешным, я боялся приглашать девушек на свидания, ожидая язвительного отказа. Я фантазировал, что на меня обратила внимание дева серафической красоты и херувимской доброты; мы сидим в затемнённом помещении, напряжённую тишину которого нарушает лишь наше взволнованное дыхание; с нежность я смотрю в её глаза, блестящие, как Млечный Путь, сотнями миллиардов звёзд; мы целуемся с тем святым и сладким жаром, свободным от всяких дурных помыслов, каким бывает отмечен только один поцелуй, первый поцелуй, – тот, которым две души приобретают власть одна над другой; время и пространство перестают существовать – в вечности остаётся только нерушимый союз наших забывающих робость губ. Я искал болезненной страсти, сумасшествия чувств и жестокой борьбы, видя, как подобает типичному романтику, неразрывную связь Эроса и Танатоса. Я ощущал себя благородным Радамесом, похороненным вместе с ненаглядной Аидой, бравым Андре Шенье, идущим к гильотине рука об руку с верной Мадлен, находящимися в бесконечном поиске себя Тангейзером и Зигфридом, умирающими с именем возлюбленных на устах, несчастным Тристаном, погибающим рядом с Изольдой, отверженным Лоэнгрином, преданным женским недоверием, бедным Вертером, которому так и не удалось насладиться блаженством взаимной любви. Потеряв со временем ощущение реальности, которая была для меня всего-навсего одним из множества параллельных художественных миров, тесно связанных между собой, я, как мужская реинкарнация пушкинской Татьяны, ждал идеал – вычитанную в романах и сыгранную лирической колоратурой принцессу; я не понимал элементарной истины, другими людьми принятой интуитивно: идеал – это путеводная звезда, указывающая тебе путь, но никогда не спускающаяся с небосклона, чтобы составить компанию за дружественной беседой. Идеальным может быть лишь образ – не человек. К сожалению, я не знал, что если тебе посчастливилось повстречать долгожданную принцессу, с ангельской кротостью восседающую на белой кобыле, то незамедлительно стоит задуматься: не она ли тот всадник на бледном коне, за которым следует ад?
Чувства того, кто предаётся созерцанию одиноко и молчаливо, расплывчатее и в то же время глубже, чем если бы он находился на людях, его мысли весомее, прихотливее, и на них неизменно лежит налёт печали. Картина мира, ощущения, которые легко можно было бы потушить единым взглядом, смешком, обменом мнений, его занимают больше, чем следует; в молчании они углубляются, становятся значительным событием, авантюрой чувств, неизгладимым впечатлением. Одиночество порождает оригинальное, смелое, пугающе прекрасное – поэзию. Но оно порождает и несуразицу, непозволительный абсурд.
Моё восприятие людей и жизни можно было, пользуясь психиатрической терминологией, назвать амбивалентным. Огрызаясь про себя в сторону человеческого общества, годами подвергавшего меня обструкции, я с замиранием сердца восхищался возможностями человеческого гения, сотворившего из безжизненной пустоты тривиальности «Волшебную гору» и «Страсти по Матфею». Меня разочаровала жизнь в целом, жизнь вообще, жизнь в её посредственном, неинтересном, тусклом течении, разочаровала, разочаровала; и всё же слово, одно лишь слово, самое обычное, но единственное и незаменимое, высеченное в числе прочих на пожухнувшей странице книги, приводило меня в состояние экстатического трепета. С годами моя страсть к литературе не только не ослабела, но и стала многократно сильнее. Читал я много, читал всё, что попадалось под руку, и быстро настраивался на нужную волну. Каждую поэтическую личность я понимал и чувствовал; я полагал, что узнаю в ней себя, и воспринимал всё в стиле той или иной книги до тех пор, пока своего воздействия не начинала оказывать следующая. Я жил искусством, ради искусства и в мире искусства. В куске камня, на который прилегла белокожая красавица из «Сна, вызванного полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения», для меня теплилось больше жизни, чем я мог разглядеть в чертах всех знакомых людей, вместе взятых. Мой ум свыкся с одиночеством, а свет презирал я всей душой.
Через какое-то время в школе к моим чудачествам привыкли. За мной закрепилась слава деревенского дурачка, паренька не от мира сего, юродивого, который, когда к нему обращаются, смотрит не на человека, а, будто не замечая, сквозь него, и меня оставили в покое. Я был удивлён столь резкой перемене курса, чудесным образом перенёсшей корабль моего существования, уже гибнувший в пучине, в тихую бухточку, где повелевал ленивый штиль, однако почитал правильным не подвергать дарёного коня придирчивому медицинскому осмотру.
Всё время, которое оставалось у меня от учёбы и чтения, я посвящал жалким попыткам творчества. Нет, ничего, кроме работы для меня не существовало, ведь как человек я ни во что себя не ставил и значение своё усматривал лишь в творчестве; в жизни же бродил серый и невзрачный, точно актёр, только что смывший грим, – ничтожество вне театральных подмостков. Я слышал в себе потребность создавать, переводя реакции нейронов в самые восхитительные слова и образы, которые видел свет. Я грезил не о славе, лавиной признания обрушивающейся на одарённого писателя, а жаждал удостовериться, что могу, могу, могу быть не мальчиком для битья, пустым местом, неприкаянным крысёнышем, но демиургом, властителем мощным собственного мира. И я не мог. Я изрывал тетради, ломал ручки и сгрызал карандаши, но ничто из этого не могло наделить меня хотя бы крупицей таланта. Рассказы, выходившие из-под моего пера, были мертворождёнными детьми: безжизненными манекенами, пошлыми потугами эпигонства, искренними, но неодушевлёнными признаниями в любви многим кумирам. Я писал сотни слов каждый день, и ни в одной букве не было меня. Я заплутал в дебрях подражательства, потерялся, негодовал на слабость, не находя сил что-либо изменить. Литература стала для меня не призванием, а проклятием. Я рано, очень рано почувствовал на своих плечах её покровительственную руку: в пору, когда ещё нетрудно жить в согласии с богом и человеком, я видел на себе клеймо, ощущал загадочную несхожесть с другими – обычными, положительными людьми, пропасть, зияющую между мной и окружающими, пропасть иронии, неверия, протеста, познания, бесчувствия. Я был одинок настолько, что не мог прийти ни в какое согласие с людьми, а дорогу к поэтической красоте, способной составить моё счастье, преграждал отряд подготовленных солдат, живших приказом не пропускать меня к святым чертогам.
Чтобы заглушить боль, притупив мучительное осознание своей творческой оскоплённости, я приобщился к горьким радостям крепкого алкоголя. Если Фолкнер и Хемингуэй черпали в нём трезвое вдохновение, используя как золотой ключик, освобождавший гениальность ото всех цепей, то я находил в нём путеводитель по песчаным пляжам медленной Леты. Обжигающий вкус прохладной водки, которую я без зазрения совести воровал из материного серванта, нежный после пары-тройки рюмок, давал покой, беззаботность, головокружительную туманность осоловелого взора и крепкий сон без сожалений и кошмаров. Не могу постигнуть, отчего меня не исключили из школы? Не вынесли, на худой конец, ни одного предупреждения, не вызвали к директору мать? Возможно ли было не заметить забористый запах перегара и пьяную походку пятнадцатилетнего ученика? Как бы то ни было, запойное чтение и запойный алкоголизм – вполне обычный набор для личности увлекающейся и немного творческой – стали добрыми спутниками моего счастливого отрочества.
Тем временем пришла долгожданная пора выпускных экзаменов. Наконец-то! Свобода, волшебная свобода! Так близко! Все обиды и страдания останутся позади! Начнётся новая жизнь, переизданная, претерпевшая исправления и дополнения! Аттестат зрелости маячил перед носом радужной упругостью финишной ленточки. Как изнемогающий от усталости и жажды марафонец, которому последние десять метров дистанции кажутся вечностью, я стремился только к скорейшему окончанию забега. И чуть было не напоролся на услужливо подставленную ногу очередного благодетеля.
Последней в череде экзаменов числилась литература. Несмотря на принципиальное нежелание с пораженным лицом Архимеда, произносящего свою легендарную «Эврику», оглашать избитые и кодифицированные в рамках школьной программы трактовки, за что меня недолюбливали преподаватели, никаких серьёзных проблем я не ожидал.
Класс в полном составе толпился в узком коридоре второго этажа. На запылённых окнах, испещренных чёрными точками и сальными отпечатками грязных пальцев, жужжали мухи. По стенам шныряли взволнованные солнечные блики. С утопающей в разноцветном мареве улицы, такой бархатно-тёплой, что настоящим преступлением было покидать её, лился сквозь щели в оконных рамах, вздёргивая шторы, как юбочки, нагретый воздух с ароматом сирени. Из-за оглушительного многоголосья взволнованных голосов, бубнивших экзаменационные билеты, с трудом удавалось расслышать собственные мысли. Я стоял в стороне, в углу, как всегда любил, чтобы держать всех в поле зрения и чувствовать себя в безопасности; костяшки пальцев вытанцовывали фокстрот на поверхности бежевого дверного косяка. Меня нервировала царившая перед дверьми кабинета суета; выпученные белки бегающих глаз, изрисованные алыми ветками капилляров, вызывали лёгкие панические атаки и навязчивое желание отвернуться. Почему они не могут достать книгу и с наслаждением почитать? Зачем трясутся из-за оценок, которые им безразличны? Боятся не оправдать ожиданий, боятся не соответствовать чьим-то личных стандартам, до которых им, если задумаются на секунду, не будет никакого дела? Они не испугались зарезать Томаса, но впадают в ужас при мысли не выдержать экзамена? Мелко! Мелко и подло! Коридор пропитался терпким запахом беспокойства и пота. Я находился в трёх метрах от остальных учеников, но разделяли нас бескрайние просторы. Даже в минуты общей тяготы я не знал, как сойтись с ними, как объединить усилия, побрататься и забыть былое. Да и хотел ли я? Глядя на их раскрасневшиеся щёки, я спрашивал себя: «Почему я какой-то отщепенец, не такой, как все, почему учителя ко мне придираются, а сам я сторонюсь товарищей? Ведь это хорошие, благонравные ученики – то, что называется „золотая середина“. Учителя не кажутся им смешными, они не пишут стихов и думают о том, о чём положено думать и что можно высказать вслух. Какими порядочными, со всеми согласными они ощущают себя, и как это, наверно, им приятно… Кто же я такой, и что со мной будет дальше?». И затем сильнее вжимался в угол, намертво скрещивая руки на груди.
С селадоновых стен кабинета взирали обагеченные портреты классиков русской литературы, развешенные без какой-либо системы и задыхавшиеся под слоем вердепешевой пыли. Ошарашенный взгляд Блока с сожалением следил за новым поколением подростков, которым на протяжении пяти лет усердно прививали нелюбовь к чтению, нарекая такую методу лучшим в мире школьным образованием. Над осветлённой зелёной доской, разлинованной, как боевыми шрамами, царапинами и трещинами, с впитавшимися в эмаль призрачными меловыми круговертями, висел нарисованный рукой каллиграфа алфавит русского языка; своей зажатостью и неуверенностью буква «Т» напоминала грустного бродягу, который, поправляя сбившуюся набок лужковскую кепку, борется с душной неопределённостью похмельного утра.
В одном потоке со мной готовилась Нелли. Знакомые вороные волосы, как тёмно-синий венок душистых цветов, волнились на расслабленные загорелые плечи, пьянящие мягкостью vin leger. Сверкающие искры чёрных очей, ослепительные, как на небе звёзды осенних ночей, были прикованы к квадратным клеткам тонкой тетради. Элегантные пальцы с бижутерными кольцами развязно-эротично держали шариковую ручку. Она повзрослела, расцвела, утратила детскую угловатость, приняв в дар от природы зрелую грациозность юной красавицы. На её сладко-розовых, слегка припухлых губах, как прежде, лучилась беззлобная, прямодушная улыбка. Принцесса школы, во всех нас она имела поклонников, но не друзей или подруг; и правильно, ибо что это за идеал, с которым амикошонствуешь? С одноклассниками она поддерживала отношения чисто деловые, равнодушно отвергая ухаживания и нескончаемые признания в любви. Поговаривали, что она якшалась с уличными гонщиками, проводившими ночи в поисках адреналиновых взбучек на пустырях и полузаброшенных дорогах. Романтика глупой опасности, заставлявшая бурлить тишайший из всех омутов…
Меня вызвали отвечать. Билет содержал три вопроса. На первые два, посвящённые «Грозе» Островского и лирике Маяковского, я ответил быстро, чётко и без настроения. Третий вопрос представлял собой устный вариант сочинения на вольную тему. Требовалось выбрать, как гласил билет, любое произведение и подробно его разобрать.
– Ну? О чём ты нам поведаешь? – спросила завуч, выступавшая главой экзаменационной комиссии. Это была немолодая женщина с прямоугольным лицом, вызывавшим ассоциации с кирпичом. На высоком лбу, изобиловавшем строчками морщин, рассыпались островки пигментных пятен. Короткие чёрные волосы и скрывавший фигуру спортивный костюм, в котором она неизменно шныряла по школе, делали её похожей на низкорослого мужчину. Вероятная жертва анальной фиксации, она почитала своим святым долгом исполнять роль обязательной затычки даже в той бочке, из которой прямо сейчас разливали вино. В её бурной деятельности крылся постоянный упрёк всей мужской части человечества, ни один представитель которой до сих пор не догадался на ней жениться. Мужчин она ненавидела люто и провозглашала себя радикальной феминисткой, ни в ком не нуждавшейся и полностью самодостаточной. А у меня не укладывалось в голове, почему же тогда она с такой любовью относится к продукции концерна «Адидас», созданного мужчиной и названного в его честь, и каждый перерыв в работе проводит за компьютером, изобретённым (и наверняка собранным) отнюдь не женщиной?
– «Иосиф и его братья», – ответил я.
Члены комиссии, до того бормотавшие себе что-то под нос, умолкли. Переглянулись. Кто-то нервно кашлянул, прочищая горло. Загрохотала пугающая тишина, не предвещавшая ничего хорошего. Завуч, восседавшая на почётном месте в центре, будто верховный судья, смотрела в моё послушное лицо большим, чёрным, испытующим, выжидающим, вопросительным, блестяще-серьёзным взглядом, который эти три секунды говорил не на языке мыслей, как взгляд животного.
– Это что ещё такое? – заскрежетала она шафрановыми зубами, источавшими солоноватую вязкость картофельных чипсов со вкусом зелёного лука.
– Роман Томаса Манна, который он писал восемнадцать лет. – Приходилось напрягать силы, чтобы не отвернуться.
– Английская литература не входит в программу обучения в нашей школе, – проговорила она, отчеканивая каждое слово.
– Смотри, как дёргается!
– Это намного веселее, чем лягушек в лесу резать!
– Ты гляди, как псина фыркает, аж пар из ноздрей валит!
Томас истекал кровью, беспомощно скулил и задыхался; они не прекращали смеяться.
– Ну вот, – с улыбкой сказал Дима, когда закончил, – теперь у нас есть приличная собака. С купированными ушами и хвостом. Всё как в лучших питомниках.
– Паспорта не хватает, – вставил кто-то из ребят.
– Верно, – согласился Дима, – документы нужны. А лучшие документы – это те, что подписаны кровью. Так мой отец говорит.
Опершись на колено и приблизившись к Томасу, Дима мгновенно, как профессиональный мясник, перерезал ему горло.
– Пёсик, ты с чернилами переборщил, – сказал Дима и расхохотался. Остальные заржали вместе с ним. Осмотрев одежду и убедившись, что на ней нет следов крови, Дима добавил: – Шавку в контейнер выбросите, нечего этому говну на дороге лежать.
Жирдяй, державший меня, с проворством легкоатлета вскочил и схватил бездыханное тело Томаса; мгновение спустя маленький трупик моего щенка, прибывшего если не из созвездия Гончих, то наверняка Самых Верных Псов, словно сдувшийся баскетбольный мяч, полетел в бак с картонными упаковками и тухлыми объедками.
– Понравилось, педик? – спросил Дима. – Будет тебе урок – не надо проявлять к нам неуважение. Уважение – это самое главное. Так мой отец говорит. Тебе стоит запомнить.
Прозвучал звонок, возвещавший начало занятий, расточительный и бессердечный в своей громкости. Ребята, чертыхаясь и толкаясь, подхватили разбросанные портфели и побежали в школу.
– Чёрт, опоздали же, – бурчали они, забыв обо всём.
– Сейчас нам двояки за прогул влепят, блин!
– И родителей в школу вызовут. Вот же задница!
– Лишь бы Марья Ивановна ещё не пришла.
– Отче наш, сущий на небесах… – забормотал едва слышно Дима, свирепо крестясь и поглаживая пальцами широкое нательное распятие, висевшее на золотой цепочке.
Я вытащил бездыханное тельце из мусорного контейнера, может быть, послужившего смертным ложем не одному беспризорному псу, бережно убрал с его заплаканной, окровавленной мордочки гниющую банановую кожуру и отнёс Томаса на вершину близлежащего холма, где росла одинокая берёза, приветливо раскинувшая обнаженные ветви. Как грозный, неподкупный судия, взирающий с высоты на грешников, чьи мысли и дела ему известны наперёд, эта бетула с молчаливой строгостью оценивала копошащихся под ней людей, являвшихся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Величавая, повидавшая мир, склонившаяся под тяжким гнётом неутешительных дум, она показалась мне надёжным проводником поруганному щенку, первым стражем дремучего, мрачного, угрюмого леса, в котором стынет мозг и ужас тайны длится. Обдирая руки до мяса, ломая почерневшие ногти, в полузабытьи, в спасительном самозабвении, я пробивался через толщу задубевшей грязи. С каждым поддавшимся сантиметром промёрзлого грунта отмирал очередной кусочек моей больной души. Из могилки, куда я заботливо, несмотря на дикую боль в трясущихся руках, положил Томаса, на меня глядела безмятежная мордочка с матовым чёрным носом. Когда с последним омертвелым куском земли погребальный процесс подошёл к концу, я откинулся к стволу берёзы. Хотелось плакать, но слёз не было. Внутри меня разверзлась пропасть, в которой зияла пустота. Я заглянул в нее, и в моей душе, обернувшейся выжженной пустыней, дали первые всходы цветы зла и анчарное древо невиданной ярости.
Могу предположить, что их яд, капавший сквозь кору, к полудню растоплявшийся от зноя и застывавший ввечеру густой прозрачною смолою, безвозвратно отравил бы мою натуру намного раньше, чем это произошло в действительности, если бы тем душным летом, сломленный и нелюдимый, я не попал в деревню к бабушке по линии отца, с которой мои родители не общались с женитьбы. Подобно многим другим матерям, не умеющим отличать родительскую любовь от бесконтрольного чувства собственничества, она категорически не одобряла выбор своего молодого сына, считая себя вправе, пока существует мир, принимать за него все решения и надеясь на более удачную, выгодную и перспективную партию; и что уж греха таить – в этом случае семена её эгоистического недовольства прорастали на благоприятнейшей почве. Не понимаю, по какой причине они решили возобновить отношения, казалось бы, почившие в бозе почти с десяток лет назад, однако после окончания первого класса, когда, задыхаясь от нашествия вездесущего тополиного пуха, мы на три месяца прощались со школой, весело подбрасывая в воздух воображаемые чепчики, меня отправили, снабдив непомерно большим чемоданом из кожзаменителя, тяжёлым и обтрёпанным, в Салтыковку.
Невольно подметая чемоданом подрагивающий пол вагона, оплёванный, засыпанный бычками и шелухой от семечек, заставленный пустыми бутылками, некогда терпевшими горькую лотерейность палёной водки, и пузатыми клетчатыми баулами, главными пассажирами российских поездов любой дальности следования, чихая из-за ядрёного запаха перегара, разносившегося от загорелых щетинистых лиц, по которым текла булькающая слюнка крепкого сна, я выбрался, задев плечом курившего в тамбуре высокого человека в коричневом макинтоше, на щербатый перрон, обрамлённый по флангам трухлявыми деревянными поддонами, бездарно игравшими роль перехода через рельсы. Ангелы не пели с небес, а в руках моих не было чекушки с кубанской. Бабушка Тоня, или, как почтительно называли её соседи, Антонина Васильевна, дожидалась меня возле остановки первого вагона. Это была осанистая женщина, широкая и плотная, с массивными ладонями, покрытыми толстой, жёсткой как наждачная бумага кожей, увенчанной шрамами и оставшимися после мозолей рубцами, малость сгорбленная, коротконогая, что, впрочем, никак не сказывалось на скорости её передвижений, по которой некоторые издалека принимали бабушку за молодую девушку, с копной тонких седых волос, с смуглым лицом человека, много времени проведшего под палящим солнцем, с глазами большими и строгими, прятавшимися под богатейшими ресницами, в дерюжном тёмно-жёлтом сарафане, безмерно далёком от вычурных поделок ведущих модельеров, в тонкой спортивной ветровке бежевого цвета, прикрывавшей плечи, – проще говоря, настоящая крестьянская матрона, воспетая Некрасовым и Дюпре.
– Бог ты мой! – всплеснула она руками, когда я приблизился. – Я-то понять не могла, кто кого тащит: ты чемодан или он тебя. Додумались же они ребёнку такую махину всучить. Тебя в нём хоронить можно, прости господи.
Она выхватила чемодан и, смотря вслед удалявшейся электричке, погладила меня по волосам.
– Волосы почти как у отца, – проговорила она задумчиво и, присмотревшись к чертам моего лица, добавила: – А глаза-то! Глаза! Один в один! Как у Васеньки! Эх, ну я хотя бы уверена теперь, что ты мой внук. Не нагуляла тебя эта прошмандовка неизвестно с кем. Ладно, пойдём к дому?
Она подмигнула, и мы неторопливо спустились с платформы, перешли на противоположную сторону, умудрившись не переломать ноги на шатком мостике из поддонов, прогибавшемся при каждом шаге, как поверхность надувного батута, и, миновав переполненные мусорные баки, ржавые и прохудившиеся, попали на просторную улицу. Поэтически настроенный человек, увлекающийся архитектурой, сравнил бы эту улицу, вечно пребывавшую в благословенной тишине, с нефом длинного готического собора, успокаивающего отсутствием горластых посетителей, впившихся алчным взглядом в экраны видеокамер, фотоаппаратов и мобильных телефонов; по краям улицы, восхищая богатым разнообразием узоров на ароматной коре, росли высоченные деревья, походившие на канеллюровые колонны, пышной капителью мощных ветвей распускавшиеся к верхушке, на которой шелестел тёмно-изумрудный антаблемент кроны; под уютной тенью колонн-деревьев в многочисленных импровизированных трансептах расположились разноликие участки-капеллы с выставленными на передний план, как на освещённую рампу, святыми и кумирами, столь почитаемыми в наше время, – ремонтируемыми автомобилями, отпущенными с конвейера, пожалуй, в сталинские времена, отдающими навозом грядками, где тыква браталась с картошкой, покосившимися мангалами, изъеденными временем и нехваткой ухода, раздолбанными телевизорами, утюгами, пылесосами, чайниками, плитами, избавиться от которых не позволяли жалость, ностальгия и авось-затейник, призывавший верить, пусть и подспудно, в чудесное воскрешение всей этой бытовой рухляди по мановению волшебной палочки расщедрившегося случая; таким образом, путь к дачному дому представлял собой череду средокрестий, обеднённых недостатком величественных башен, но позволявших вдоволь насладиться умиротворяющими сценками деревенской жизни, полусмешными, полупечальными, простонародными, в каком-то смысле идеальными, и убаюкивающим, какие бы страсти ни кипели в душе, шумом вечно зеленеющих тёмных дубов, отечески склонявшихся над уставшим путником. Венчающий наш крестный ход алтарь, пред которым в течение восьми следующих летних литургий, смиренно пав ниц, я причащался мягкостью травы, умывшейся росой, и бодрым постукиванием веток клёна по оконному стеклу, был унылой избушкой, сложенной из брёвен, неравномерно покрытых зелёной краской. Избушка состояла из трёх небольших комнат, обставленных ветхими шкафами, комодами с неполным комплектом ящиков, низкими кроватями, отличавшими от примитивных раскладушек лишь наличием дистрофичной дощечки в изголовье, чумазой газовой плитой, с двумя неработающими конфорками из четырех и газовым вентилем, державшимся на честном слове Эпименида, и холодильником «Бирюса», крепившимся из последних сил. На аляповатой тумбочке в спальне гордо красовался допотопный салатовый «Индезит» – объект совсем не марксистских воздыханий типичного советского коммуниста, – все ветеранские возможности которого ограничивались шипящей трансляцией передач трёх главных аббревиатурных каналов страны; когда дождливыми летними ночами свет уже был выключен, он переносил меня в светлый, безумный, бесшабашный мир семи частей «Полицейской академии», с неизменной пунктуальностью гитлеровских поездов каждый год шедшей по НТВ. Второй этаж, на который вела примыкавшая к дому крытая обуженная лестница, образовывал чердак-недоносок, крохотный, всегда пыльный, захламлённый, не знавшее света пристанище орд пауков, одним видом своих волосатых лапок приводивших меня в состояние вертикальной каталепсии; неуместной декоративностью этот триумф сельской китчевости напоминал мезонин с балконом. Шестисоточный участок окаймляло ограждение из рабицы, позволявшее как наблюдать за проходившими людьми, так и быть объектом пристального наблюдения; если бы вдоль забора не кустились ежевика, малина и красная смородина, создававшие минимальное укрытие от посторонних глаз, я бы чувствовал себя участником реалити-шоу, потерявшим последние капли стыдливости; калиткой служила железная конструкция из рамы с прутьями, сваренными крест-накрест, и задвижки, на которой позвякивал миниатюрный навесной замок. На заднем дворе, куда вела зигзагообразная, чтобы обогнуть парник с огурцами и посадки кабачков, дорожка, выложенная обыкновенной тёмно-серой плиткой, покосился очковый туалет, или сортир, как в попытках придать изысканности и французского шарма привыкли называть это насмешливое, но незаменимое сооружение; обитый искорёженными металлическими листами и необработанными досками, размокшими от сырости, не пропускавший солнечные лучи, с крестовиками, плетшими адские круги серебристой паутины во всех четырёх углах, с невыносимыми миазмами, поднимавшимися из сакральной дыры, казавшейся жерлом вулкана, которое поглотило заточенное в объятиях пучеглазого Голлума Кольцо Всевластия, туалет был для меня леденящим кровь убежищем гадких чудовищ; минуты той самой естественной из потребностей, которую Леопольд Блум упоённо, рассевшись королём на троне, удовлетворял, почитывая журнальчик и думая о чистоте костюма для похорон, были для меня мучительным прыжком веры в зловещую неизвестность: по полчаса, всеми мышцами борясь с позывами плоти, я бродил возле скрипучей двери, заглядывал внутрь, тревожно осматривал владения туалетного Саурона, отслеживал перемещения сонных пауков, а затем захлопывал дверь, ощущая поднимавшийся по спине холодок; наконец, набрав в лёгкие воздуха, будто ныряльщик, я забегал в мрачный короб и, поёживаясь, содрогаясь, справлял терзавшую меня нужду. Справа от участка, горделиво возвышаясь над муравьиной суетностью рода людского, вздымался могучий и благородный, как мифический Иггдрасиль, дуб, необхватный, непоколебимый, грандиозный, будто многовековая секвойя, раскинувшийся шатром сочной, тёмной зелени; расхаживая под его листвой, сложенной в причёску кого-нибудь из «битлов» и надёжно укрывавшей меня от мира, я был князем Болконским, упивавшимся горькой прелестью противоречивой жизни. Если обойти дом с противоположной стороны, забредя в ясеневую рощу, предварявшую протяжённый лес, можно было оказаться напротив прудика, имевшего двадцать-тридцать метров в диаметре; позеленевший от водорослей, окутавших мутной плёнкой всю его когда-то блестящую гладь, пруд совершил привычную для глубинки трансформацию: из достопримечательного украшения местности превратился в раздражающую свалку, куда обленившиеся жители сбрасывали накопившийся мусор – от перевязанных узлом полиэтиленовых мешков до сломанного грузовика, чья побитая кабина опасливо, как нашкодивший ребёнок из-за угла комнаты, выглядывала из тинистой толщи отравленной воды. На холмах позади пруда вечерами собирались местные подростки; водрузив на самодельный деревянный столик двухлитровые бутыли с дешёвым пивом и джином-тоником, они прогоняли прочь, стараясь забыться, невинную юность, которую даже не успели узнать; укрывшись в дружелюбных сумерках ночи от света и безмерности боли, они хоронили в шипастых кустах дикого крыжовника, в буйных зарослях смятой травы, облепивших берег пруда, тоску и страх, мечты и горе, выставляя напоказ истошную обнажённость несформировавшихся душ и тел; притаившись, бывало, за услужливыми деревьями, я следил за оргиями, рождёнными не ослепительным пламенем страстей, не очищающей жаждой знаний, которые открывают самую сущность жизни и помогают проникать в неё, не гедонистической тягой к удовольствиям, но пожирающим изнутри отчаянием; их пьяные разговоры, бессмысленные споры, в которых слышались отголоски бунта, лишённого идеалов и, значит, разрушительно-нигилистического, эти глупо-торгашеские фразы, противные, как мелочные приставания, не задерживались надолго в моей памяти: очаровывали движения, волнительные, неуклюжие, топорные, под личиной разудалого восторга маскировавшие, как стихотворения Лорки, поэзию сомнамбулического страдания, – новые дети подземелья, плясавшие на могилке, каждую весну зеленевшей свежим дёрном и ядовитой цикутой.
Кто-то обвинит меня в том, что я чересчур подробно, обстоятельно и витиевато описываю малоинтересные детали своей жизни. Но разве будут понятны мои чувства, если я не расскажу о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго не мог отрешиться от юношеской наивности? Разве прогулки по немому лесу, осиянному прорывавшимися сквозь плотные преграды стволов солнечными лучами, игры на руинах неизвестного здания, чьи бордовые кирпичи в моём воображении становились развалинами Камелота, расслабленный отдых на залитой светом равнине, в центре которой искрились приветливые воды озера, неумелая езда на четырехколёсных роликах, оборачивавшаяся синяками, ободранными ладонями и разбитыми коленками, великие сражения с участием пластиковых солдатиков, происходившие под стволами клёнов и в недрах кучи песка, сваленного в двух шагах от участка, – разве всё это не выстраивало, тростинка за тростинкой, веточка за веточкой, невзрачный шалаш моей личности?
Самый младший из здешних ребят был старше меня на четыре года. Для их сложившейся за долгие годы компании я был чужаком, пришельцем, шпионом, от которого следовало держаться подальше. Они терпели меня возле себя лишь потому, что так просила бабушка, пользовавшаяся в районе непререкаемым авторитетом Вито Корлеоне. Однако именно эти ребята, издевавшиеся над моим именем, через день нажиравшиеся вусмерть, как крепостные мужики, рукоблудившие всем скопом в ветхом сарайчике, где спёртый воздух вызывал головокружение, открыли мне, хотя сами того не ведали, мир поразительных чудес.
Заводилой ватаги был пятнадцатилетний мальчик по имени Витя, худосочный, вытянутый, смахивающий на жердь, рыжий, с обсыпанным веснушками, бледным лицом, остроухий и с неизменной дымившейся сигаретой, зажатой в костлявых пальцах. На территории участка его родителей стояли параллельно два дома: семья жила в новом – большом, просторном двухэтажном строении, с трёх сторон обласканном курчавыми лианами девичьего винограда, а старый, лилипутскими габаритами вызывавший сравнение с домиком для нежеланных гостей, теснился у досочного забора, забытый и плевельный, как бедный родственник. Этот обшарпанный домик давным-давно возвёл дед Вити, скончавшийся за два года до моего первого приезда на дачу. К домику от синей калитки с колокольчиком без язычка, которую заколотили после смерти деда, ползла выверенная, как по линейке, вытоптанная дорожка; слева от нее, вздувшаяся от влажности и облюбованная слизняками, перевернулась набок конура для кавказской овчарки, когда-то погибшей под колёсами поезда; дорожка заканчивалась у лепреконского двухступенчатого крылечка, предназначение которого было объято тайной, потому что уместить там даже кухонный табурет, не говоря уже о чиппендейловском кресле и тем паче достархане, накрытом на топчане, являлось миссией невыполнимой для всех, за исключением, разумеется, Тома Круза. В дом никто не ходил. Обычно деревянная дверь, при жизни деда вкусного апельсинового цвета, а после покрывшаяся серо-буро-малиновыми проплешинами, с шаровидной ручкой, неосторожное прикосновение к которой могло привести к появлению в ладони парочки глубоко засевших заноз, была заперта на ключ, но однажды, рядовым июльским деньком, когда палившее солнце сжалилось над нами и удалилось на перекур за дождливые тучи, асфальтовые, низкие, свирепые, как бык на корриде, а у соседей залаял блондинистый алабай, предчувствовавший неминуемую грозу, Витя впустил нас в угрюмое помещение, поделённое на две равные комнаты – кухню и спальню. Выцветшие бистровые шторы не пропускали уличный свет, лампочки перегорели, поэтому внутреннее убранство было погружено в безмятежную тьму заброшенного дома. Резкий застоявшийся воздух, как газ, вызывал сухость во рту и резь в глазах. Простенькие белые обои со следами грязных пальцев и кетчупа вздулись и отклеивались. Ни звука. Дом производил удручающее и гнетущее впечатление обречённой на гибель усадьбы Ашеров в миниатюре. Ребята решили не задерживаться: подвигав мебель и порывшись в кухонных шкафчиках, они вышли наружу. Я остался один. Мне не хотелось уходить. Смутное предвкушение открытий, заставлявшее трепетать весь организм, влекло меня в спальню – так, верно, направляют на безумства голоса, звучащие в голове шизофреника. Я одёрнул шторы – чуть-чуть посветлело. На прочной сосновой тумбе в углу спальни, едва превосходившей размерами комнатный альков, громоздился граммофон с внушительным железным рупором. За дверцей тумбы, сложенные ровной стопкой, лежали в прекрасно сохранившихся конвертах пластинки. Не ведая по молодости лет, к какой святыне дерзнул прикоснуться, я вытащил верхнюю. С четвёртой попытки я разобрался в устройстве граммофона и запустил зашипевший виниловый диск. Никогда до того момента я не понимал искусства музыки священной: выступления низкопробных эстрадников, которые мама смотрела по телевизору, и рванная, дёрганная, шабашная танцевальная музыка, игравшая в школе по праздникам, отпугивали меня безжизненным однообразием и демонстративной грубостью, – но в те мгновения мой вслух впервые различил в ней чей-то голос сокровенный. Играла запись E lucevan le stelle 1957-го года в исполнении Франко Корелли. Его дивный тенор, переливчатый, как северное сияние, сладко-горький, как тёплый поток радостных слёз, сокрушающий, как гигантское торнадо, олицетворял собой совершенную, всепобеждающую красоту, которая никем и никак не может быть опорочена; когда шелестом летнего платья, скрывавшего под собой мягкую, как карамель, девственную кожу прелестной возлюбленной, раздалось нежнейшее диминуэндо на верхнем ля в слове disciogliea, вечное, как небытие смерти, мой мир рухнул в бездонную пропасть и через мгновение, продлившееся миллионы лет, вознёсся к небесам; в душе погас свет, как уличный рожок без газа, и разгорелся вновь, как кровавый раздор вражды минувших дней в маленьком итальянском городке; злость, глодавшая меня изнутри, слабела и отступала, уносимая прочь каплями дождя, хлеставшими по крыше визгливыми кнутами надсмотрщика; я почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь.
На следующий день мечта об оперной сцене поработила мой мозг, как инфекция энцефалита. Я познал одной лишь думы власть, одну – но пламенную страсть, жившую во мне червём и сгрызавшую душу. Остервенелой ненасытностью, требовавшей, будто кровожадный демон, всё новых жертвоприношений, я приводил в негодность десятки дорогих моему сердцу пластинок. С заведенным упорством механической Олимпии из «Сказок Гофмана», хрипя, порыкивая и задыхаясь, я выводил срывавшимся, тремолировавшим голосом выученные назубок куплеты, пытаясь быть одновременно поэтом Рудольфом, князем Елецким и королем Рене. Вскоре я к своему ужасу обнаружил, что грозная, жестокая судьба в порыве злорадства лишила меня драгоценного дара – музыкального слуха и чувства ритма. Подобно страдающему алексией, обречённому с печалью откладывать в долгий ящик призывно распахнутые страницы книги, которую так хочется прочитать, понять и сберечь самыми яркими фрагментами в закромах памяти, мне приходилось терзаться трагедией неискоренимого врождённого несовершенства, рвавшего на части, словно проголодавшийся гепард, догнавший захромавшую антилопу, радужные мечты о светлом будущем. Как ни старался, как ни хотел, как ни заставлял себя, проклиная за бесталанность и убогость, я не мог запомнить мелодию, секунды назад волновавшую меня, как первая любовь, не мог попасть в ноты, когда напевал, не мог даже различить в бушующем океане звуков тихую гавань вступления, когда нужно начинать петь. Мне позволяли любоваться роскошным фасадом сказочного дворца музыки, однако инкрустированная драгоценными камнями дверь, охраняемая золотыми статуями львов искуснейшей работы, была для меня навсегда закрыта. Когда в шестом классе нас учили играть на свирели, моя необыкновенная музыкальная тугоухость стала достоянием общественности: я был единственным из двадцати пяти человек, кто упорно, как будто нарочно, не попадал в простенький ритм короткой пастушеской песенки. Надо мной насмехались люди, считавшие Марио Дель Монако основателем французской футбольной команды, которую он, по их мнению, подправив ударение, назвал в свою честь, и вульгарно искажавшие фамилии Марии Каллас и Аурелиано Пертиле. Учитель музыки, облокотившись на рояль и поглаживая гусарские усы, качал головой, называл меня лентяем и жаловался матери, которая награждала меня, неблагодарного шелопута, крапивными, обжигающими оплеухами. От досады, сидя в комнате на кровати, я бился затылком о стену и откусывал надоедливые заусенцы. Беспомощность убивала меня. Но что я мог сделать? Как мне было изменить себя? Неужто одно желание внесло бы корректировки в мой генотип или работу височных долей? Разве я просил, чтобы медведем, не просто наступившим мне на ухо, а станцевавшим на нем чечётку, оказался Билл Робинсон?
В поисках заступника, верного до могилы, я бросился в велеречивые объятия классической литературы. Я познакомился с этой старой, но неувядающей девой в возрасте десяти лет. Наша встреча не отличалась захватывающими подробностями. Безоблачное июньское небо, как заядлый вуайерист, светило бесстыдной наготой, большой дуб, отбрасывавший тень на участок, брюзжал по-стариковски, хаотичными хлопками рукавичных листьев жалуясь небесам, прекратившим дотационные чичеры, на нищенскую в осадочном эквиваленте пенсию, а я, борясь со скукой, шарил по дачным шкафам. В нижнем ящике облезшего комода, поначалу не желавшем поддаваться, ютилась горстка неновых книг. Моё внимание привлекла бежево-жёлтая обложка, на которой был изображён со спины некий паренек в повернутой козырьком назад красной бейсболке, стоявший под каплями дождя. «Над пропастью во ржи» заняла в моей жизни такое же место, какое занимает Библия у ревностных христиан: я держал её в прикроватной тумбочке, читал и перечитывал, делал пометки тонким, будто нановискерным, грифелем карандаша, искал в ней ответы и помощь. Холден стал для меня реальным человеком – близким другом и названным братом, с которым я никогда не был одинок. Я встретил родственную душу, юного байронического странника, гонимого двуличным и неотёсанным миром взрослых. Как Вергилий, этот мудрый дантовский психопомп, Холден вёл меня по адским тропам вражды и разочарований, не оставляя ни на минуту. Обретя утешение в едкой сатире Рабле и де Костера, в масштабности книг Гюго и Сенкевича, в болезненной чувственности Манна и Верлена, в стилистической пышности Толстого и Пруста, в поразительной глубине образов у Бальзака и Гамсуна, в неиссякаемой доброте Гаршина и Короленко, в музыкально-прозаической концентрированности творений Джойса и Маркеса, в интеллектуальной силе Фаулза и Бродского, я начал отдаляться от мира, от людей, от природы, возводя изощрённые преграды в неприступной башне из слоновой кости, в которую добровольно, отвергая наставления Гессе, себя заточил. Я читал бессистемно, как начётчик; набрасывался на книги, как Кощей на злато; я поглощал художественные миры, как огромная чёрная дыра. Книги служили мне маяком, который направлял по жизни, и спасательным кругом, не позволявшим сгинуть в пучине повседневных избиений и издевательств. Я кидался во вселенную книг, словно в омут, тонул в невыразимом великолепии и всплывал навстречу звёздам. Набоков советовал читать не торопясь, потягивая литературу, будто дорогое вино, но его слова казались мне дикими, потребительскими и невыполнимыми. Словно наркоман в ломке, дорвавшийся до дозы, такой желанной и близкой, обещавшей неземные удовольствия, я не мог остановиться.
– Какого чёрта ты всё сидишь за своими книжками! – бесилась мама. – Пустая трата времени. Лучше бы нашёл себе друзей. Ты больной: тебе бумажки дороже людей.
Я не знал, как объяснить ей, что у меня сотни друзей, и таких, каких мне ни за что не сыскать в школе или во дворе, что в час любви, объятий, снов мне сладостно придаваться чтению книг великих мудрецов. Она считала жизнью посиделки с подружками под аккомпанемент однооктавных завываний очередного плохого шансонье, закалифшегося на пару концертов, и громкого плеска бесцветного вермута. Я бежал этого существования, звучавшего в моих ушах гимном пошлости и мещанства. Я желал удрать от прозы жизни, сделаться анахоретом, как Сэлинджер или Пинчон, чтобы создавать поэзию искусства. Я исписывал тетрадки и учебники, газеты и туалетную бумагу, выл и рыдал из-за несовершенства формулировок, примитивности мыслей, плоскости образов, беспомощности сюжетных линий. Я уверился в собственной бездарности и безнадёжности. Я не сомневался, что не смогу, как бы ни изводил себя пустыми чаяниями, сотворить подлинную красоту. Я представлял себя многоликим Янусом от литературы: во мне уживались молодой писатель без стиля и молодой писатель без идей, прозаик, жадный до поэтических красот, и прозаический поэт. Тем не менее, как Чарский, я только тогда и знал истинное счастье, когда, терзаемый сомнениями и возбуждённый вдохновением, запирался в своей комнате и писал с утра до поздней ночи, а затем и всю ночь до утра, после чего, бледный, разгорячённый, словно больной гриппом, ослабший, выжатый, без чувств падал на кровать и забывался целительным сном без сновидений.
Чем старше я становился, тем явственнее тяготила меня потребность в женском внимании. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. С завистью я взирал на уверенных в себе одноклассников, властно обнимавших точёные девичьи плечи, уверенно продвигавшихся рукой к упругим грудям, притягательными бугорками выдававшимися из-под белоснежной блузки с накрахмаленным воротничком, подчёркивавшим изысканную тонкость лебединой шеи; целующиеся парочки, страстно обнимавшиеся, опираясь на загаженный подоконник, заставляли меня всякий раз во время движения по школьным коридорам упирать в расчерченный подошвами линолеум стыдливый взгляд пунцового лица; коротенькие юбчонки, почти не прикрывавшие аппетитные ягодицы, и разноцветные чулочки в горизонтальную полоску, тянувшиеся выше колен, обособляя волнительную стройность прямых ножек, деспотически завладевали моим воображением. Мне не верилось, что обворожительная девушка может влюбиться в такого неудачника и изгоя, как я. Опасаясь попасть в неловкую ситуацию, показаться смешным, я боялся приглашать девушек на свидания, ожидая язвительного отказа. Я фантазировал, что на меня обратила внимание дева серафической красоты и херувимской доброты; мы сидим в затемнённом помещении, напряжённую тишину которого нарушает лишь наше взволнованное дыхание; с нежность я смотрю в её глаза, блестящие, как Млечный Путь, сотнями миллиардов звёзд; мы целуемся с тем святым и сладким жаром, свободным от всяких дурных помыслов, каким бывает отмечен только один поцелуй, первый поцелуй, – тот, которым две души приобретают власть одна над другой; время и пространство перестают существовать – в вечности остаётся только нерушимый союз наших забывающих робость губ. Я искал болезненной страсти, сумасшествия чувств и жестокой борьбы, видя, как подобает типичному романтику, неразрывную связь Эроса и Танатоса. Я ощущал себя благородным Радамесом, похороненным вместе с ненаглядной Аидой, бравым Андре Шенье, идущим к гильотине рука об руку с верной Мадлен, находящимися в бесконечном поиске себя Тангейзером и Зигфридом, умирающими с именем возлюбленных на устах, несчастным Тристаном, погибающим рядом с Изольдой, отверженным Лоэнгрином, преданным женским недоверием, бедным Вертером, которому так и не удалось насладиться блаженством взаимной любви. Потеряв со временем ощущение реальности, которая была для меня всего-навсего одним из множества параллельных художественных миров, тесно связанных между собой, я, как мужская реинкарнация пушкинской Татьяны, ждал идеал – вычитанную в романах и сыгранную лирической колоратурой принцессу; я не понимал элементарной истины, другими людьми принятой интуитивно: идеал – это путеводная звезда, указывающая тебе путь, но никогда не спускающаяся с небосклона, чтобы составить компанию за дружественной беседой. Идеальным может быть лишь образ – не человек. К сожалению, я не знал, что если тебе посчастливилось повстречать долгожданную принцессу, с ангельской кротостью восседающую на белой кобыле, то незамедлительно стоит задуматься: не она ли тот всадник на бледном коне, за которым следует ад?
Чувства того, кто предаётся созерцанию одиноко и молчаливо, расплывчатее и в то же время глубже, чем если бы он находился на людях, его мысли весомее, прихотливее, и на них неизменно лежит налёт печали. Картина мира, ощущения, которые легко можно было бы потушить единым взглядом, смешком, обменом мнений, его занимают больше, чем следует; в молчании они углубляются, становятся значительным событием, авантюрой чувств, неизгладимым впечатлением. Одиночество порождает оригинальное, смелое, пугающе прекрасное – поэзию. Но оно порождает и несуразицу, непозволительный абсурд.
Моё восприятие людей и жизни можно было, пользуясь психиатрической терминологией, назвать амбивалентным. Огрызаясь про себя в сторону человеческого общества, годами подвергавшего меня обструкции, я с замиранием сердца восхищался возможностями человеческого гения, сотворившего из безжизненной пустоты тривиальности «Волшебную гору» и «Страсти по Матфею». Меня разочаровала жизнь в целом, жизнь вообще, жизнь в её посредственном, неинтересном, тусклом течении, разочаровала, разочаровала; и всё же слово, одно лишь слово, самое обычное, но единственное и незаменимое, высеченное в числе прочих на пожухнувшей странице книги, приводило меня в состояние экстатического трепета. С годами моя страсть к литературе не только не ослабела, но и стала многократно сильнее. Читал я много, читал всё, что попадалось под руку, и быстро настраивался на нужную волну. Каждую поэтическую личность я понимал и чувствовал; я полагал, что узнаю в ней себя, и воспринимал всё в стиле той или иной книги до тех пор, пока своего воздействия не начинала оказывать следующая. Я жил искусством, ради искусства и в мире искусства. В куске камня, на который прилегла белокожая красавица из «Сна, вызванного полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения», для меня теплилось больше жизни, чем я мог разглядеть в чертах всех знакомых людей, вместе взятых. Мой ум свыкся с одиночеством, а свет презирал я всей душой.
Через какое-то время в школе к моим чудачествам привыкли. За мной закрепилась слава деревенского дурачка, паренька не от мира сего, юродивого, который, когда к нему обращаются, смотрит не на человека, а, будто не замечая, сквозь него, и меня оставили в покое. Я был удивлён столь резкой перемене курса, чудесным образом перенёсшей корабль моего существования, уже гибнувший в пучине, в тихую бухточку, где повелевал ленивый штиль, однако почитал правильным не подвергать дарёного коня придирчивому медицинскому осмотру.
Всё время, которое оставалось у меня от учёбы и чтения, я посвящал жалким попыткам творчества. Нет, ничего, кроме работы для меня не существовало, ведь как человек я ни во что себя не ставил и значение своё усматривал лишь в творчестве; в жизни же бродил серый и невзрачный, точно актёр, только что смывший грим, – ничтожество вне театральных подмостков. Я слышал в себе потребность создавать, переводя реакции нейронов в самые восхитительные слова и образы, которые видел свет. Я грезил не о славе, лавиной признания обрушивающейся на одарённого писателя, а жаждал удостовериться, что могу, могу, могу быть не мальчиком для битья, пустым местом, неприкаянным крысёнышем, но демиургом, властителем мощным собственного мира. И я не мог. Я изрывал тетради, ломал ручки и сгрызал карандаши, но ничто из этого не могло наделить меня хотя бы крупицей таланта. Рассказы, выходившие из-под моего пера, были мертворождёнными детьми: безжизненными манекенами, пошлыми потугами эпигонства, искренними, но неодушевлёнными признаниями в любви многим кумирам. Я писал сотни слов каждый день, и ни в одной букве не было меня. Я заплутал в дебрях подражательства, потерялся, негодовал на слабость, не находя сил что-либо изменить. Литература стала для меня не призванием, а проклятием. Я рано, очень рано почувствовал на своих плечах её покровительственную руку: в пору, когда ещё нетрудно жить в согласии с богом и человеком, я видел на себе клеймо, ощущал загадочную несхожесть с другими – обычными, положительными людьми, пропасть, зияющую между мной и окружающими, пропасть иронии, неверия, протеста, познания, бесчувствия. Я был одинок настолько, что не мог прийти ни в какое согласие с людьми, а дорогу к поэтической красоте, способной составить моё счастье, преграждал отряд подготовленных солдат, живших приказом не пропускать меня к святым чертогам.
Чтобы заглушить боль, притупив мучительное осознание своей творческой оскоплённости, я приобщился к горьким радостям крепкого алкоголя. Если Фолкнер и Хемингуэй черпали в нём трезвое вдохновение, используя как золотой ключик, освобождавший гениальность ото всех цепей, то я находил в нём путеводитель по песчаным пляжам медленной Леты. Обжигающий вкус прохладной водки, которую я без зазрения совести воровал из материного серванта, нежный после пары-тройки рюмок, давал покой, беззаботность, головокружительную туманность осоловелого взора и крепкий сон без сожалений и кошмаров. Не могу постигнуть, отчего меня не исключили из школы? Не вынесли, на худой конец, ни одного предупреждения, не вызвали к директору мать? Возможно ли было не заметить забористый запах перегара и пьяную походку пятнадцатилетнего ученика? Как бы то ни было, запойное чтение и запойный алкоголизм – вполне обычный набор для личности увлекающейся и немного творческой – стали добрыми спутниками моего счастливого отрочества.
Тем временем пришла долгожданная пора выпускных экзаменов. Наконец-то! Свобода, волшебная свобода! Так близко! Все обиды и страдания останутся позади! Начнётся новая жизнь, переизданная, претерпевшая исправления и дополнения! Аттестат зрелости маячил перед носом радужной упругостью финишной ленточки. Как изнемогающий от усталости и жажды марафонец, которому последние десять метров дистанции кажутся вечностью, я стремился только к скорейшему окончанию забега. И чуть было не напоролся на услужливо подставленную ногу очередного благодетеля.
Последней в череде экзаменов числилась литература. Несмотря на принципиальное нежелание с пораженным лицом Архимеда, произносящего свою легендарную «Эврику», оглашать избитые и кодифицированные в рамках школьной программы трактовки, за что меня недолюбливали преподаватели, никаких серьёзных проблем я не ожидал.
Класс в полном составе толпился в узком коридоре второго этажа. На запылённых окнах, испещренных чёрными точками и сальными отпечатками грязных пальцев, жужжали мухи. По стенам шныряли взволнованные солнечные блики. С утопающей в разноцветном мареве улицы, такой бархатно-тёплой, что настоящим преступлением было покидать её, лился сквозь щели в оконных рамах, вздёргивая шторы, как юбочки, нагретый воздух с ароматом сирени. Из-за оглушительного многоголосья взволнованных голосов, бубнивших экзаменационные билеты, с трудом удавалось расслышать собственные мысли. Я стоял в стороне, в углу, как всегда любил, чтобы держать всех в поле зрения и чувствовать себя в безопасности; костяшки пальцев вытанцовывали фокстрот на поверхности бежевого дверного косяка. Меня нервировала царившая перед дверьми кабинета суета; выпученные белки бегающих глаз, изрисованные алыми ветками капилляров, вызывали лёгкие панические атаки и навязчивое желание отвернуться. Почему они не могут достать книгу и с наслаждением почитать? Зачем трясутся из-за оценок, которые им безразличны? Боятся не оправдать ожиданий, боятся не соответствовать чьим-то личных стандартам, до которых им, если задумаются на секунду, не будет никакого дела? Они не испугались зарезать Томаса, но впадают в ужас при мысли не выдержать экзамена? Мелко! Мелко и подло! Коридор пропитался терпким запахом беспокойства и пота. Я находился в трёх метрах от остальных учеников, но разделяли нас бескрайние просторы. Даже в минуты общей тяготы я не знал, как сойтись с ними, как объединить усилия, побрататься и забыть былое. Да и хотел ли я? Глядя на их раскрасневшиеся щёки, я спрашивал себя: «Почему я какой-то отщепенец, не такой, как все, почему учителя ко мне придираются, а сам я сторонюсь товарищей? Ведь это хорошие, благонравные ученики – то, что называется „золотая середина“. Учителя не кажутся им смешными, они не пишут стихов и думают о том, о чём положено думать и что можно высказать вслух. Какими порядочными, со всеми согласными они ощущают себя, и как это, наверно, им приятно… Кто же я такой, и что со мной будет дальше?». И затем сильнее вжимался в угол, намертво скрещивая руки на груди.
С селадоновых стен кабинета взирали обагеченные портреты классиков русской литературы, развешенные без какой-либо системы и задыхавшиеся под слоем вердепешевой пыли. Ошарашенный взгляд Блока с сожалением следил за новым поколением подростков, которым на протяжении пяти лет усердно прививали нелюбовь к чтению, нарекая такую методу лучшим в мире школьным образованием. Над осветлённой зелёной доской, разлинованной, как боевыми шрамами, царапинами и трещинами, с впитавшимися в эмаль призрачными меловыми круговертями, висел нарисованный рукой каллиграфа алфавит русского языка; своей зажатостью и неуверенностью буква «Т» напоминала грустного бродягу, который, поправляя сбившуюся набок лужковскую кепку, борется с душной неопределённостью похмельного утра.
В одном потоке со мной готовилась Нелли. Знакомые вороные волосы, как тёмно-синий венок душистых цветов, волнились на расслабленные загорелые плечи, пьянящие мягкостью vin leger. Сверкающие искры чёрных очей, ослепительные, как на небе звёзды осенних ночей, были прикованы к квадратным клеткам тонкой тетради. Элегантные пальцы с бижутерными кольцами развязно-эротично держали шариковую ручку. Она повзрослела, расцвела, утратила детскую угловатость, приняв в дар от природы зрелую грациозность юной красавицы. На её сладко-розовых, слегка припухлых губах, как прежде, лучилась беззлобная, прямодушная улыбка. Принцесса школы, во всех нас она имела поклонников, но не друзей или подруг; и правильно, ибо что это за идеал, с которым амикошонствуешь? С одноклассниками она поддерживала отношения чисто деловые, равнодушно отвергая ухаживания и нескончаемые признания в любви. Поговаривали, что она якшалась с уличными гонщиками, проводившими ночи в поисках адреналиновых взбучек на пустырях и полузаброшенных дорогах. Романтика глупой опасности, заставлявшая бурлить тишайший из всех омутов…
Меня вызвали отвечать. Билет содержал три вопроса. На первые два, посвящённые «Грозе» Островского и лирике Маяковского, я ответил быстро, чётко и без настроения. Третий вопрос представлял собой устный вариант сочинения на вольную тему. Требовалось выбрать, как гласил билет, любое произведение и подробно его разобрать.
– Ну? О чём ты нам поведаешь? – спросила завуч, выступавшая главой экзаменационной комиссии. Это была немолодая женщина с прямоугольным лицом, вызывавшим ассоциации с кирпичом. На высоком лбу, изобиловавшем строчками морщин, рассыпались островки пигментных пятен. Короткие чёрные волосы и скрывавший фигуру спортивный костюм, в котором она неизменно шныряла по школе, делали её похожей на низкорослого мужчину. Вероятная жертва анальной фиксации, она почитала своим святым долгом исполнять роль обязательной затычки даже в той бочке, из которой прямо сейчас разливали вино. В её бурной деятельности крылся постоянный упрёк всей мужской части человечества, ни один представитель которой до сих пор не догадался на ней жениться. Мужчин она ненавидела люто и провозглашала себя радикальной феминисткой, ни в ком не нуждавшейся и полностью самодостаточной. А у меня не укладывалось в голове, почему же тогда она с такой любовью относится к продукции концерна «Адидас», созданного мужчиной и названного в его честь, и каждый перерыв в работе проводит за компьютером, изобретённым (и наверняка собранным) отнюдь не женщиной?
– «Иосиф и его братья», – ответил я.
Члены комиссии, до того бормотавшие себе что-то под нос, умолкли. Переглянулись. Кто-то нервно кашлянул, прочищая горло. Загрохотала пугающая тишина, не предвещавшая ничего хорошего. Завуч, восседавшая на почётном месте в центре, будто верховный судья, смотрела в моё послушное лицо большим, чёрным, испытующим, выжидающим, вопросительным, блестяще-серьёзным взглядом, который эти три секунды говорил не на языке мыслей, как взгляд животного.
– Это что ещё такое? – заскрежетала она шафрановыми зубами, источавшими солоноватую вязкость картофельных чипсов со вкусом зелёного лука.
– Роман Томаса Манна, который он писал восемнадцать лет. – Приходилось напрягать силы, чтобы не отвернуться.
– Английская литература не входит в программу обучения в нашей школе, – проговорила она, отчеканивая каждое слово.