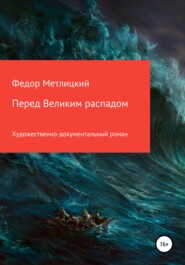По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне виделась моя сестричка, в печальном тумане.
– Отец много крови попортил. Не было никакого контроля – избаловался. Бабник был страсть. На Кавказе – ели черемшу. Я орешков чинарей насбирала – послала его в Орджоникидзе продавать. А он пустой пришел: «Купил мешок картошки, хлеба, того-то, а меня с машины сбросили». Я ему: «Ах ты! Врешь все, где деньги дел?» Даа… А потом в Хадыжах спутался с кем-то. мне твой брат Витя все рассказал. Я завербовалась, хотела уехать, вас забрать. А он сдрейфил и – вымаливать прощения. Ну, в конце концов, плюнула – куда я с детьми? Все хотела разводиться, а сейчас незачем. Теперь он изменился – часто плачет, вспоминает старое, свои несправедливости. Меня теперь боится. Не люблю я, когда выпивший приходит – ты чего, говорю, отойди. А он: «Я ж ничего, не дерусь, мамка, не серчай».
Катя торжествующе смотрела на меня. Я вспоминал, как отец порол меня, зажав голову между ногами, и его ласковые руки убийцы.
– Да, хвастун он порядочный. Страсть любит объяснять, поучать – хлебом не корми. А ты отца страшился. Конечно, когда здоровый дядька бросается на маленького. А он еще смеется, старикан.
Мы с Катей уложили ее спать. Она уснула.
Катя смотрела на меня по-новому, загадочно. Наверно, я предстал перед ней в истинном свете.
У меня ушло видение соседки тетки Ленки, и саднила какая-то глубочайшая грусть. Катя вздохнула.
– А у нее глаза умные.
Я вспоминал детство. Оно виделось мне как шаткий висячий мостик, опасно качающийся над багровой бездной, по которому шел в восторженном ужасе (видимо, это было во время переездов). Начало жизни в первозданном краю, в поселке Гроссевичи (назван по имени первопроходца).
Первое воспоминание: яблоня с маленькими красными "райскими" яблочками, кто-то хромой и страшный с железной ногой. Поле, восход, изморось до горизонта, а там за ним – какая-то первозданная, античная страна (а ведь тогда ничего не знал о древнем мире).
И сказочное путешествие – наш переезд в приморский городок Совгвань. Любимый город можешь спать спокойно… Вспоминаю что-то родное – город детства. Сказочный город с сияющим заливом полукругом, сырая пристань, рыба "упырь", прибитая к берегу, и рыбак бил водяную змею о плиты.
Помню себя под столом, и кружится черная пластинка: "Вставай, страна огромная…" Игра в войну, в кочках и какой-то пахучей траве, когда припадал за ними, захватывало дух.
Первое чтение книги "Чук и Гек", которую читал "по буквам". Помню пожелтевшие страницы про какого-то Левина в усадьбе. И книгу "История гражданской войны", там солдат с протянутым огромным кулаком и жгучими глазами. И еще – книгу про отечественную войну, с жутким рисунком Зои в петле. И, как на конвейере, быстро рисовал цветными карандашами портреты вождей один за другим.
Голодная жизнь, мешок картошки в запасе, разговоры юркого отца, дележ хлеба, стрельба уток из мелкокалиберки, и за рекой, где бегут вверх сопки, – страшный темный лес как в детской книжке "Лес шумит" Короленко, которую читал с ужасом. И – я больной, в санках, закутан до глаз, звезды вверху, и счастье запеленутого в заботу родительскую.
В центре целый дворец, здание обкома. Около большой стенд, на котором записаны трудовые успехи колхозов, почти все имени Ленина или знаменитости, прославившейся здесь. Люди одеты по «пролетарской моде», без малейшего понятия о тонком вкусе и современной моде, которая есть в Москве и на Западе. Какие-то полушубки, моряцкие кепочки с маленькими козырьками, зимой черные пальто с красным шарфом, длинные бакенбарды, у молодого моряка —кольцо с печаткой. Газеты простодушно повторяют все, что пишут столичные. Они гораздо правее, чем центральные, и если свежесть есть, то, прежде всего, она исходит из столичных изданий. Люди тут искренно говорят банальности. Любят различные слеты, торжества.
А ведь была эпоха – "маевки" у реки, и над водой разносится: "Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля" и "Люди до-бры-е, поверьте – расстава-а-нье хуже смерти"… Молодой отец в косоворотке… Беготня по солнечно-морскому городу на фильм "Слон и веревочка", когда занозил ногу на дощатом тротуаре, и японец в толпе пленных, лошадиными зубами грызущий брошенный мной каменный пряник. Романтически неустроенная жизнь семьи, приморцев, и весь в белом Блюхер, неуязвимый японским пулям, и чердак, серая красноармейская шинель, слежавшиеся кипы дореволюционных книг, и – о чудо! буденовка, и фото отца в офицерской форме, и его друга Беляева, алкаша, израненного на фронте, вся грудь в орденах.
Уже позже – какой-то вокзал с молочными шарами люстр, переезд на Кавказ, отец захотел яблочек, в год народного разорения после войны. Я физически ощущал строки Пушкина: Кавказ подо мною…" До сих пор чую грохочущие обвалы, родниковый холодно-дымный Кавказ, хотя на самом деле ничего этого не было.
Помню, сидел на дереве, – закат, и тоскливо, не появится ли мать с мешком диких груш, орешков "чинарей" и черемши на спине. И легкомысленного отца, евшего тайком от детей, пропившего собранные матерью "чинари". Матери от него доставалось, "спутался" с кем-то, и она забирала детей и уходила – в никуда.
Помню городок Хадыженск, конфеты бабки-карги, наши детские походы куда-то, на пруд – по поверью, там бездонный омут, откуда можно не вынырнуть. И смерть сестры Светланы, которую мы восприняли так, словно она осталась где-то в стороне, существует, и всегда будет. И детдом, куда попал, убежавши от голода, и как бегали к кукурузному полю красть початки, и вкус молочных зерен, и как выгнали из детдома ребенка голого, и директор, фронтовик, завернул его в шинель, и ударил няню, выгнавшую ребенка.
Я плакал, словно вернулся домой, и можно поплакать о том, единственном, откуда ушел, и с тех пор никто не приласкал и не утешил.
Уезжая, мама сказала:
– Я испугалась, когда твою жену увидела. Поцеловала так неловко, вытянула губы. Она у тебя красивая.
Я ходил за панорамным стеклом аэропорта, пытался увидеть ее вдалеке.
Вечером ели оставленную мамой красную рыбу. Рыба была по-русски пересоленной и жесткой.
6
…Прошло несколько забитых работой и бытом лет. У нас появился ребенок, лупоглазая дочка Света, взирающая на меня всем своим маленьким существом. Сначала мне надоедали одни хлопоты вокруг нее. Но потом это ушло, хотелось спать рядом, видеть у лица ее мордочку сонную, и откинутыми, как у зверька, ручками.
От нее не отходил наш кот Баська, тоже чистое существо, обладающее той же притягательной силой любви. Чем человечек отличается от животного? Адам и Ева тоже жили в раю, как животные, без забот, инстинктами, не зная фраз, ибо мысль изреченная есть ложь. Света терзала, мяла кота, но тот терпеливо сносил пытку, видимо, зная, что она ребенок.
Я сидел в своем углу, гордо именуемом кабинетом, писал обещанную приятелям статью.
Приковыляла Светка, воззрилась на ручку, что я там пишу.
– Ты что там ручкой— дррыгаешь?
Я оттаял, словно и не было терзаний ревности.
– Давай, ты будешь одной ручкой писать, а я другой, ладно? Что мне нужно, то и буду делать, а ты – что тебе нужно, то и будешь делать.
Она бормотала.
– Здесь я напишу про Мальвину рас-скас. Вот у меня еще есть, где писать. Можно еще здесь написать, досюда и вот еще туда.
Скоро ей надоело, и она поплелась в свою комнату. Там, в центре стены, наш любимый ее портрет в маминой шали, с восторженным взглядом, отрешенно впившимся во что-то удивительное вверху. Она беседовала со своим портретом, играла с ежиком-матросом.
Света жила, как Ева в раю, где сплошь счастье любви к тебе, и можно ничего не делать, или что хочешь. Я погружался в единственный свет, в котором нет ничего беспокоящего, словно здесь достигал полного успокоения, душевного исцеления. Здесь мой рай, где отношения чисты, и нет вранья, обмана, измен, где хотел бы жить вечно.
Утром она проснулась, села на кровати.
– Уже наступило утро, мама?
– Вставай, лентяйка.
– Мама, мне плохой сон приснился.
– Какой, доченька?
– Мне снилось, что я ножками шла далеко-далеко. Как будто я одна, и ни мамы, ни папы около меня нет.
У нас с мамой на глазах появились слезы. Мама схватила ее в объятия. Засмеялась, пересиливая себя, попросила:
– А ну, засмейся.
Та выпучила глаза:
– Гы-гы-гы…
Мама повернулась ко мне:
– От тебя это. Света смеется, и десны видно.
Мама исправляла недостатки ее речи.
– Скажи: три.
– Отец много крови попортил. Не было никакого контроля – избаловался. Бабник был страсть. На Кавказе – ели черемшу. Я орешков чинарей насбирала – послала его в Орджоникидзе продавать. А он пустой пришел: «Купил мешок картошки, хлеба, того-то, а меня с машины сбросили». Я ему: «Ах ты! Врешь все, где деньги дел?» Даа… А потом в Хадыжах спутался с кем-то. мне твой брат Витя все рассказал. Я завербовалась, хотела уехать, вас забрать. А он сдрейфил и – вымаливать прощения. Ну, в конце концов, плюнула – куда я с детьми? Все хотела разводиться, а сейчас незачем. Теперь он изменился – часто плачет, вспоминает старое, свои несправедливости. Меня теперь боится. Не люблю я, когда выпивший приходит – ты чего, говорю, отойди. А он: «Я ж ничего, не дерусь, мамка, не серчай».
Катя торжествующе смотрела на меня. Я вспоминал, как отец порол меня, зажав голову между ногами, и его ласковые руки убийцы.
– Да, хвастун он порядочный. Страсть любит объяснять, поучать – хлебом не корми. А ты отца страшился. Конечно, когда здоровый дядька бросается на маленького. А он еще смеется, старикан.
Мы с Катей уложили ее спать. Она уснула.
Катя смотрела на меня по-новому, загадочно. Наверно, я предстал перед ней в истинном свете.
У меня ушло видение соседки тетки Ленки, и саднила какая-то глубочайшая грусть. Катя вздохнула.
– А у нее глаза умные.
Я вспоминал детство. Оно виделось мне как шаткий висячий мостик, опасно качающийся над багровой бездной, по которому шел в восторженном ужасе (видимо, это было во время переездов). Начало жизни в первозданном краю, в поселке Гроссевичи (назван по имени первопроходца).
Первое воспоминание: яблоня с маленькими красными "райскими" яблочками, кто-то хромой и страшный с железной ногой. Поле, восход, изморось до горизонта, а там за ним – какая-то первозданная, античная страна (а ведь тогда ничего не знал о древнем мире).
И сказочное путешествие – наш переезд в приморский городок Совгвань. Любимый город можешь спать спокойно… Вспоминаю что-то родное – город детства. Сказочный город с сияющим заливом полукругом, сырая пристань, рыба "упырь", прибитая к берегу, и рыбак бил водяную змею о плиты.
Помню себя под столом, и кружится черная пластинка: "Вставай, страна огромная…" Игра в войну, в кочках и какой-то пахучей траве, когда припадал за ними, захватывало дух.
Первое чтение книги "Чук и Гек", которую читал "по буквам". Помню пожелтевшие страницы про какого-то Левина в усадьбе. И книгу "История гражданской войны", там солдат с протянутым огромным кулаком и жгучими глазами. И еще – книгу про отечественную войну, с жутким рисунком Зои в петле. И, как на конвейере, быстро рисовал цветными карандашами портреты вождей один за другим.
Голодная жизнь, мешок картошки в запасе, разговоры юркого отца, дележ хлеба, стрельба уток из мелкокалиберки, и за рекой, где бегут вверх сопки, – страшный темный лес как в детской книжке "Лес шумит" Короленко, которую читал с ужасом. И – я больной, в санках, закутан до глаз, звезды вверху, и счастье запеленутого в заботу родительскую.
В центре целый дворец, здание обкома. Около большой стенд, на котором записаны трудовые успехи колхозов, почти все имени Ленина или знаменитости, прославившейся здесь. Люди одеты по «пролетарской моде», без малейшего понятия о тонком вкусе и современной моде, которая есть в Москве и на Западе. Какие-то полушубки, моряцкие кепочки с маленькими козырьками, зимой черные пальто с красным шарфом, длинные бакенбарды, у молодого моряка —кольцо с печаткой. Газеты простодушно повторяют все, что пишут столичные. Они гораздо правее, чем центральные, и если свежесть есть, то, прежде всего, она исходит из столичных изданий. Люди тут искренно говорят банальности. Любят различные слеты, торжества.
А ведь была эпоха – "маевки" у реки, и над водой разносится: "Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля" и "Люди до-бры-е, поверьте – расстава-а-нье хуже смерти"… Молодой отец в косоворотке… Беготня по солнечно-морскому городу на фильм "Слон и веревочка", когда занозил ногу на дощатом тротуаре, и японец в толпе пленных, лошадиными зубами грызущий брошенный мной каменный пряник. Романтически неустроенная жизнь семьи, приморцев, и весь в белом Блюхер, неуязвимый японским пулям, и чердак, серая красноармейская шинель, слежавшиеся кипы дореволюционных книг, и – о чудо! буденовка, и фото отца в офицерской форме, и его друга Беляева, алкаша, израненного на фронте, вся грудь в орденах.
Уже позже – какой-то вокзал с молочными шарами люстр, переезд на Кавказ, отец захотел яблочек, в год народного разорения после войны. Я физически ощущал строки Пушкина: Кавказ подо мною…" До сих пор чую грохочущие обвалы, родниковый холодно-дымный Кавказ, хотя на самом деле ничего этого не было.
Помню, сидел на дереве, – закат, и тоскливо, не появится ли мать с мешком диких груш, орешков "чинарей" и черемши на спине. И легкомысленного отца, евшего тайком от детей, пропившего собранные матерью "чинари". Матери от него доставалось, "спутался" с кем-то, и она забирала детей и уходила – в никуда.
Помню городок Хадыженск, конфеты бабки-карги, наши детские походы куда-то, на пруд – по поверью, там бездонный омут, откуда можно не вынырнуть. И смерть сестры Светланы, которую мы восприняли так, словно она осталась где-то в стороне, существует, и всегда будет. И детдом, куда попал, убежавши от голода, и как бегали к кукурузному полю красть початки, и вкус молочных зерен, и как выгнали из детдома ребенка голого, и директор, фронтовик, завернул его в шинель, и ударил няню, выгнавшую ребенка.
Я плакал, словно вернулся домой, и можно поплакать о том, единственном, откуда ушел, и с тех пор никто не приласкал и не утешил.
Уезжая, мама сказала:
– Я испугалась, когда твою жену увидела. Поцеловала так неловко, вытянула губы. Она у тебя красивая.
Я ходил за панорамным стеклом аэропорта, пытался увидеть ее вдалеке.
Вечером ели оставленную мамой красную рыбу. Рыба была по-русски пересоленной и жесткой.
6
…Прошло несколько забитых работой и бытом лет. У нас появился ребенок, лупоглазая дочка Света, взирающая на меня всем своим маленьким существом. Сначала мне надоедали одни хлопоты вокруг нее. Но потом это ушло, хотелось спать рядом, видеть у лица ее мордочку сонную, и откинутыми, как у зверька, ручками.
От нее не отходил наш кот Баська, тоже чистое существо, обладающее той же притягательной силой любви. Чем человечек отличается от животного? Адам и Ева тоже жили в раю, как животные, без забот, инстинктами, не зная фраз, ибо мысль изреченная есть ложь. Света терзала, мяла кота, но тот терпеливо сносил пытку, видимо, зная, что она ребенок.
Я сидел в своем углу, гордо именуемом кабинетом, писал обещанную приятелям статью.
Приковыляла Светка, воззрилась на ручку, что я там пишу.
– Ты что там ручкой— дррыгаешь?
Я оттаял, словно и не было терзаний ревности.
– Давай, ты будешь одной ручкой писать, а я другой, ладно? Что мне нужно, то и буду делать, а ты – что тебе нужно, то и будешь делать.
Она бормотала.
– Здесь я напишу про Мальвину рас-скас. Вот у меня еще есть, где писать. Можно еще здесь написать, досюда и вот еще туда.
Скоро ей надоело, и она поплелась в свою комнату. Там, в центре стены, наш любимый ее портрет в маминой шали, с восторженным взглядом, отрешенно впившимся во что-то удивительное вверху. Она беседовала со своим портретом, играла с ежиком-матросом.
Света жила, как Ева в раю, где сплошь счастье любви к тебе, и можно ничего не делать, или что хочешь. Я погружался в единственный свет, в котором нет ничего беспокоящего, словно здесь достигал полного успокоения, душевного исцеления. Здесь мой рай, где отношения чисты, и нет вранья, обмана, измен, где хотел бы жить вечно.
Утром она проснулась, села на кровати.
– Уже наступило утро, мама?
– Вставай, лентяйка.
– Мама, мне плохой сон приснился.
– Какой, доченька?
– Мне снилось, что я ножками шла далеко-далеко. Как будто я одна, и ни мамы, ни папы около меня нет.
У нас с мамой на глазах появились слезы. Мама схватила ее в объятия. Засмеялась, пересиливая себя, попросила:
– А ну, засмейся.
Та выпучила глаза:
– Гы-гы-гы…
Мама повернулась ко мне:
– От тебя это. Света смеется, и десны видно.
Мама исправляла недостатки ее речи.
– Скажи: три.