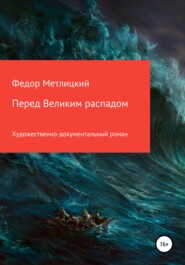По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не человек года – шведская школьница Грета Тумберг, узнавшая об ухудшении климата из мультиков, а мы, независимые экологи-общественники были идеалистами или недалекими людьми, избравшими заведомо провальный путь своей карьеры. Мы обычно накладываем цивилизованные экологические нормативы на нашу сырую реальность, и продолжаем бессмысленную борьбу за их внедрение. Срабатывают экологические программы лишь там, где озабоченные экологией головы соединяются с большими денежными ресурсами или всеобщими протестами населения. Например, всеобщая озабоченность климатом Земли, или сопротивление населения тем, кто неутомимо наваливает кучи вонючих отходов под носом. Обретают уверенную хватку те, у кого государственный ресурс соединяется с силовыми структурами. Там могут сосредоточиться огромные ресурсы для создания космических мостов через море, гипер-реактивных ракет. Что тут значат робкие попытки создать другую страну? Против лома нет приема.
Неужели при неминуемых угрозах жизни полноценная деятельность обретается только в соединении с такими ресурсами?
Я не добился успеха в жизни, мой опыт перешел в маргинальные потуги повернуть течение в нужное русло. И в моей независимости ощущал ее нищенскую бесплодность.
____
Изредка езжу в командировки, на торжественные международные форумы, официальные региональные конференции в столицах провинций, с их докладами о достижениях и нередко вспыхивающими спорами с нами, нахохлившимися оппонентами из маргинальных партий и движений. Те доклады и сборники, посвященные форумам, с уверенными докладами и резолюциями, с чудесными фотографиями строек и природы в подведомственных губернаторам краях и областях, до сих пор пылятся в шкафах моего офиса, никому не нужные, как вспышки пустых программ. И почему-то еще держу на видном месте дипломы и награды, полученные от международных организаций, министерств и ведомств, ныне исчезнувших.
Сидя на одинокой даче (жена не могла приехать сюда, снова вспоминать), я сочинял стихи.
То ли мир разрывается болью,
Охладев к своему существу,
То ль судьба моя съедена солью
Отношений, поняв их тщету?
А закат над полем как небыль,
Нашей тупости нет и следа!
Полосами ужасное небо
Устремляется в лоно куда?
Старый вкус молочный и мягкий
У зерна в молодом колоске,
В позабытом душа моя мякнет,
Что уже не ценимо никем.
И уход в пенсионеры представляется мне бездной, куда сорвусь безвозвратно. Представляю, как юный голос будет звонить из социального центра долголетия:
– Приходите к нам. У нас пенсионеры поют в хоре, танцуют. Подберем вам пару.
Типун тебе на язык. Это, может быть, самые бескорыстные люди в отчужденном в самом себе мире.
Но во мне есть некие устойчивые опоры – незыблемые устои опыта, которые поддержат при любом обрушении моей личной жизни, или даже социальной системы.
29
Эхо развала СССР отзывается десятилетиями – все никак не поделят империю, продолжаются обиды на Россию, захватившую лишнюю территорию, ту, что ранее волюнтаристски нарезали престарелые вожди Советского Союза. Мир разрывают желания элит отстаивать свои свободы, самостоятельно обладать подданными и добром своих уделов.
Сейчас время ответственности лидера за страну, озабоченного защитой наивного и добродушного населения от наклоненных в нашу сторону заборов ракет по границам, мобилизующего массы на борьбу с врагами, чтобы мы не оказались в раю, а они – в аду. Россия, огромная и хаотичная, плохо слушается. Поэтому ей нужна президентская республика, а отнюдь не парламентская, к чему призывают люди, никогда не правившие народом. А лучше монархия, к чему призывает самый известный "бесогон". Колоссальный прорыв, вернее, падение из сложности в банальную простоту.
____
Почему и в новом времени воспроизводятся все прежние тяготы существования? Только становятся более открытой страсть обладать вещами, властью, уже даже не прикрываясь моралью и совестью? Почему не исчезает страх перед аномалиями природы? Что является причиной устойчивости корней старого мира? Социальная система? Ограничивающая наше существование природа? Или мы сами? Какая невероятная сила корневых привычек народа, как у встреченных мной людей шестидесятых, держит дух рухнувшей системы незыблемым, чем испокон пользовались властители для своих целей? Дело в воспитании и образовании народа?
Неужели непобедима природа живого существа – поедать другого, чтобы выжить самому, стремиться стать альфа-самцом?
Исчезла цель. Нет идей. Есть лишь то, чем был когда-то счастлив. Как сказал писатель Д. Быков, время, заторможенное искусственно, перестало существовать. Мы оказались в безвременье, и феномен возраста исчез. Нет вертикального возраста, а только горизонтальный, 50-летние ведут себя как 20-летние. Мировоззрения нет, ибо меняться нечему. Возрастные изменения сводятся к деменции. Застывшее время не становится историческим.
Кто бесконечно крутит колесо сансары, находящейся во власти кармы и воспроизводящее все те же переживания? Это состояние, из которого не выйти, вроде античного рока (социальный строй с законами и подзаконными актами, жажда возвыситься, день и ночь, зима и лето).
Сальвадор Дали писал: конвульсии Революции нужны лишь затем, чтобы дать новую жизнь Традиции. Стоячим водам Традиции, в отличие от рек, нет надобности куда-то течь, ибо они справляются без этого, отражая вечность. Несокрушимые и стойкие вещи, пыль под ногами – знаки вечности. Власть зримого и осязаемого – что перед ней эфемерная суетность идеологии!
Может быть, мое ощущение предопределенности исходит из неприятия отставшего от времени (мое время кончилось). Но великие мыслители, как доказано, опережали время, а я прислушиваюсь к ним, и потому могу быть впереди своего времени.
****
Приближается очередной Новый год в двадцать первом столетии. В этот день происходит добровольное помешательство – из желания освободить все инстинкты, напиться и забыться. Что это за страсть к мишуре и блесткам? Ожидание чуда? Ведь все знают, что чуда не будет.
Новый год – это своего рода революция, освобождение от всех горестей мира, чистый воздух преображения. Только разрешенная революция, с отдаленной безопасной для эпохи мечтой. Даже сами органы насилия ослабляют скрепы, вернее, отбрасывают их и предаются разгулу свободы.
Для нас с женой это уже не был праздник. После смерти дочери мы убрали коробку с проклятыми новогодними игрушками и искусственной елкой на антресоли – навсегда. И на Новый год выключали "ящик" с его бесконечными хороводами, с дешевой мишурой над головами пляшущих толп на Красной площади (хотя сейчас совсем не дешевой – мэрия тратит миллионы, чтобы мы забыли наше неопределенное тревожное будущее). И не понимаем восторгов огромных толп. Впрочем, я и тогда, в молодости, считал их наносными, из отчаяния перед реальностью.
Мы перестали смотреть телевизор, ибо свобода интернета настолько обширна, что в него можно погружаться бесконечно. Иногда, когда включали телевизор, на экране ругались в политических шоу, «сбрасывая Ивашку с наката», или врывались пересуды повседневных измен и разводов пар, с судебными тяжбами родственников, делящих наследство. Ими заполнен экран, раньше только показывавший монолитность советской семьи, хотя я и в шестидесятых вживую видел и испытывал на себе то же самое.
Мы с женой живем равнодушные, как люди давно привыкшие один к другому. Я не изменился – в глазах жены такой же эгоист, озабочен не семьей, а чем-то высшим. И даже не озабочен, а – все мои мысли там. Но при любом недомогании оживляемся, чувствуя неизбывный страх друг за друга. И в то же время, вопреки нашей трагедии, – инстинктивно стремимся ухватиться за край уходящего в бессмертие плато жизни, что еще может обеспечить наше физическое существование.
Я вижу в Кате, постаревшей, душу такой же, не умевшей притворяться и прекрасной, какой она была всегда, только я не ценил ее раньше.
Она по-прежнему несет свою ношу любви – опекает не только меня, но и своих подруг. Галка потолстела и еле ходит, но такая же бодрая, Валя болеет, и муж шофер дежурит у ее постели. Катя помогает им доставать лекарства. Они постоянно звонят, вываливая на нее свои беды, как вампиры. "Ты наша заступница", – канючат они. "Нет, я врачеватель", – сердито говорит она.
Наше время прошло, и мы думаем лишь о том, сколько еще, два или пять лет будем вместе, и кто уйдет первый, оставив другого уже в безысходном одиночестве.
Нет никаких изменений в возрастных свойствах человека за тысячи лет. В старости я стал добрее, умнее, мудрее, больше понимаю людей, потому что сам многое понял. Но остался в душе прежним Веней, хотя зовут уже Вениамин Сергеевич. Так же открываю рот в удивлении, глядя в книжку и забыв поесть.
____
Встречаюсь изредка с Валеркой Тамариным, памятью о давней дружбе. Он телеведущий, но все такой же, злой – к тем, кто в альтернативных СМИ пишет о его, якобы, доме во Франции. Что-то случилось – мне стало неприятно встречаться. Это как неприятно видеть его напарницу красивую телеведущую-пропагандистку, слишком рьяно презирающую «либерастов», что для меня перечеркивает ее женственность.
Он раздраженно говорил мне:
– Вы, демократы, не имеете за собой ничего, и потому вам ничего не жалко.
И это был он, бездомный, кто обижался на встроенных в систему, и гордился своим одиночеством.
Наконец, корневые различия в нас обнажились, и мы перестали встречаться.
____
Как-то пригласил меня домой кадровик Злобин, его "ушли" на пенсию. Там сидели его приятели-старики из КГБ, бывшие эксперты. Они воспринимали крушение СССР, как конец света. Их изгнали из той системы, без которой не мыслили жить, как будто отобрали все – работу, честь, убеждения, оставив умирать.
– Сталин держал всю эту шелупонь в ежовых рукавицах.
– А Ельцин дал свободу: берите, сколько сможете ухватить. И начался распад республик. А ведь вся экономика работала на них, на окраины. А для России – по остаточному принципу.
Злобин остался прежним приспособленцем, ничем это из него уже не выбьешь. Но стал откровенным и циничным. ласково уговаривал:
– Забыли ежовые рукавицы? А страх? Я с Берия рядом жил, у Москвы-реки. И мое военное училище, где был директором – рядом. К нам захаживал его личный охранник Бобриков. Так мы вечно опасались, что Берии о наших… недостатках будет больше известно, чем нам, начальству. У него была своя просека, где гулял. Ничего, машины не заворачивал. А вот Каганович – тот, когда гулял – не проедешь. С ним эскорт. Жена Берии, рыжеволосая грузинка, заходила, потом пригласила: «Лаврентий Павлович будет рад». Я дома жене: «Пойдем, Л. П. пригласил». Та: «Я-те пойду, что, шкурой не дорожишь?» Я: «Ха-ха…». Это – перед его снятием. Вот попался бы!
– Перед снятием пришел Бобриков, веселый, – продолжал Злобин. – Рассказал, как товарищ Берия приказал ему: «Ты – останься». "Я ничего, хозяин сказал, значит, так. А потом пришли, те: «Ваши документы! И провода телефонные длинными ножницами – хрясь! Я подумал: «контрреволюцию кто-то делает».
– После того, как Бобрикова отпустили, он, не в себе, прошел поперек Красной площади, потом: куда, в село к родственникам? Выпил бутылку – не пьянеет, еще прихватил, домой пришел, шут с ним со всем! Уехал срочно – в Рязань, в милицию работать. Пил страшно.
Неужели при неминуемых угрозах жизни полноценная деятельность обретается только в соединении с такими ресурсами?
Я не добился успеха в жизни, мой опыт перешел в маргинальные потуги повернуть течение в нужное русло. И в моей независимости ощущал ее нищенскую бесплодность.
____
Изредка езжу в командировки, на торжественные международные форумы, официальные региональные конференции в столицах провинций, с их докладами о достижениях и нередко вспыхивающими спорами с нами, нахохлившимися оппонентами из маргинальных партий и движений. Те доклады и сборники, посвященные форумам, с уверенными докладами и резолюциями, с чудесными фотографиями строек и природы в подведомственных губернаторам краях и областях, до сих пор пылятся в шкафах моего офиса, никому не нужные, как вспышки пустых программ. И почему-то еще держу на видном месте дипломы и награды, полученные от международных организаций, министерств и ведомств, ныне исчезнувших.
Сидя на одинокой даче (жена не могла приехать сюда, снова вспоминать), я сочинял стихи.
То ли мир разрывается болью,
Охладев к своему существу,
То ль судьба моя съедена солью
Отношений, поняв их тщету?
А закат над полем как небыль,
Нашей тупости нет и следа!
Полосами ужасное небо
Устремляется в лоно куда?
Старый вкус молочный и мягкий
У зерна в молодом колоске,
В позабытом душа моя мякнет,
Что уже не ценимо никем.
И уход в пенсионеры представляется мне бездной, куда сорвусь безвозвратно. Представляю, как юный голос будет звонить из социального центра долголетия:
– Приходите к нам. У нас пенсионеры поют в хоре, танцуют. Подберем вам пару.
Типун тебе на язык. Это, может быть, самые бескорыстные люди в отчужденном в самом себе мире.
Но во мне есть некие устойчивые опоры – незыблемые устои опыта, которые поддержат при любом обрушении моей личной жизни, или даже социальной системы.
29
Эхо развала СССР отзывается десятилетиями – все никак не поделят империю, продолжаются обиды на Россию, захватившую лишнюю территорию, ту, что ранее волюнтаристски нарезали престарелые вожди Советского Союза. Мир разрывают желания элит отстаивать свои свободы, самостоятельно обладать подданными и добром своих уделов.
Сейчас время ответственности лидера за страну, озабоченного защитой наивного и добродушного населения от наклоненных в нашу сторону заборов ракет по границам, мобилизующего массы на борьбу с врагами, чтобы мы не оказались в раю, а они – в аду. Россия, огромная и хаотичная, плохо слушается. Поэтому ей нужна президентская республика, а отнюдь не парламентская, к чему призывают люди, никогда не правившие народом. А лучше монархия, к чему призывает самый известный "бесогон". Колоссальный прорыв, вернее, падение из сложности в банальную простоту.
____
Почему и в новом времени воспроизводятся все прежние тяготы существования? Только становятся более открытой страсть обладать вещами, властью, уже даже не прикрываясь моралью и совестью? Почему не исчезает страх перед аномалиями природы? Что является причиной устойчивости корней старого мира? Социальная система? Ограничивающая наше существование природа? Или мы сами? Какая невероятная сила корневых привычек народа, как у встреченных мной людей шестидесятых, держит дух рухнувшей системы незыблемым, чем испокон пользовались властители для своих целей? Дело в воспитании и образовании народа?
Неужели непобедима природа живого существа – поедать другого, чтобы выжить самому, стремиться стать альфа-самцом?
Исчезла цель. Нет идей. Есть лишь то, чем был когда-то счастлив. Как сказал писатель Д. Быков, время, заторможенное искусственно, перестало существовать. Мы оказались в безвременье, и феномен возраста исчез. Нет вертикального возраста, а только горизонтальный, 50-летние ведут себя как 20-летние. Мировоззрения нет, ибо меняться нечему. Возрастные изменения сводятся к деменции. Застывшее время не становится историческим.
Кто бесконечно крутит колесо сансары, находящейся во власти кармы и воспроизводящее все те же переживания? Это состояние, из которого не выйти, вроде античного рока (социальный строй с законами и подзаконными актами, жажда возвыситься, день и ночь, зима и лето).
Сальвадор Дали писал: конвульсии Революции нужны лишь затем, чтобы дать новую жизнь Традиции. Стоячим водам Традиции, в отличие от рек, нет надобности куда-то течь, ибо они справляются без этого, отражая вечность. Несокрушимые и стойкие вещи, пыль под ногами – знаки вечности. Власть зримого и осязаемого – что перед ней эфемерная суетность идеологии!
Может быть, мое ощущение предопределенности исходит из неприятия отставшего от времени (мое время кончилось). Но великие мыслители, как доказано, опережали время, а я прислушиваюсь к ним, и потому могу быть впереди своего времени.
****
Приближается очередной Новый год в двадцать первом столетии. В этот день происходит добровольное помешательство – из желания освободить все инстинкты, напиться и забыться. Что это за страсть к мишуре и блесткам? Ожидание чуда? Ведь все знают, что чуда не будет.
Новый год – это своего рода революция, освобождение от всех горестей мира, чистый воздух преображения. Только разрешенная революция, с отдаленной безопасной для эпохи мечтой. Даже сами органы насилия ослабляют скрепы, вернее, отбрасывают их и предаются разгулу свободы.
Для нас с женой это уже не был праздник. После смерти дочери мы убрали коробку с проклятыми новогодними игрушками и искусственной елкой на антресоли – навсегда. И на Новый год выключали "ящик" с его бесконечными хороводами, с дешевой мишурой над головами пляшущих толп на Красной площади (хотя сейчас совсем не дешевой – мэрия тратит миллионы, чтобы мы забыли наше неопределенное тревожное будущее). И не понимаем восторгов огромных толп. Впрочем, я и тогда, в молодости, считал их наносными, из отчаяния перед реальностью.
Мы перестали смотреть телевизор, ибо свобода интернета настолько обширна, что в него можно погружаться бесконечно. Иногда, когда включали телевизор, на экране ругались в политических шоу, «сбрасывая Ивашку с наката», или врывались пересуды повседневных измен и разводов пар, с судебными тяжбами родственников, делящих наследство. Ими заполнен экран, раньше только показывавший монолитность советской семьи, хотя я и в шестидесятых вживую видел и испытывал на себе то же самое.
Мы с женой живем равнодушные, как люди давно привыкшие один к другому. Я не изменился – в глазах жены такой же эгоист, озабочен не семьей, а чем-то высшим. И даже не озабочен, а – все мои мысли там. Но при любом недомогании оживляемся, чувствуя неизбывный страх друг за друга. И в то же время, вопреки нашей трагедии, – инстинктивно стремимся ухватиться за край уходящего в бессмертие плато жизни, что еще может обеспечить наше физическое существование.
Я вижу в Кате, постаревшей, душу такой же, не умевшей притворяться и прекрасной, какой она была всегда, только я не ценил ее раньше.
Она по-прежнему несет свою ношу любви – опекает не только меня, но и своих подруг. Галка потолстела и еле ходит, но такая же бодрая, Валя болеет, и муж шофер дежурит у ее постели. Катя помогает им доставать лекарства. Они постоянно звонят, вываливая на нее свои беды, как вампиры. "Ты наша заступница", – канючат они. "Нет, я врачеватель", – сердито говорит она.
Наше время прошло, и мы думаем лишь о том, сколько еще, два или пять лет будем вместе, и кто уйдет первый, оставив другого уже в безысходном одиночестве.
Нет никаких изменений в возрастных свойствах человека за тысячи лет. В старости я стал добрее, умнее, мудрее, больше понимаю людей, потому что сам многое понял. Но остался в душе прежним Веней, хотя зовут уже Вениамин Сергеевич. Так же открываю рот в удивлении, глядя в книжку и забыв поесть.
____
Встречаюсь изредка с Валеркой Тамариным, памятью о давней дружбе. Он телеведущий, но все такой же, злой – к тем, кто в альтернативных СМИ пишет о его, якобы, доме во Франции. Что-то случилось – мне стало неприятно встречаться. Это как неприятно видеть его напарницу красивую телеведущую-пропагандистку, слишком рьяно презирающую «либерастов», что для меня перечеркивает ее женственность.
Он раздраженно говорил мне:
– Вы, демократы, не имеете за собой ничего, и потому вам ничего не жалко.
И это был он, бездомный, кто обижался на встроенных в систему, и гордился своим одиночеством.
Наконец, корневые различия в нас обнажились, и мы перестали встречаться.
____
Как-то пригласил меня домой кадровик Злобин, его "ушли" на пенсию. Там сидели его приятели-старики из КГБ, бывшие эксперты. Они воспринимали крушение СССР, как конец света. Их изгнали из той системы, без которой не мыслили жить, как будто отобрали все – работу, честь, убеждения, оставив умирать.
– Сталин держал всю эту шелупонь в ежовых рукавицах.
– А Ельцин дал свободу: берите, сколько сможете ухватить. И начался распад республик. А ведь вся экономика работала на них, на окраины. А для России – по остаточному принципу.
Злобин остался прежним приспособленцем, ничем это из него уже не выбьешь. Но стал откровенным и циничным. ласково уговаривал:
– Забыли ежовые рукавицы? А страх? Я с Берия рядом жил, у Москвы-реки. И мое военное училище, где был директором – рядом. К нам захаживал его личный охранник Бобриков. Так мы вечно опасались, что Берии о наших… недостатках будет больше известно, чем нам, начальству. У него была своя просека, где гулял. Ничего, машины не заворачивал. А вот Каганович – тот, когда гулял – не проедешь. С ним эскорт. Жена Берии, рыжеволосая грузинка, заходила, потом пригласила: «Лаврентий Павлович будет рад». Я дома жене: «Пойдем, Л. П. пригласил». Та: «Я-те пойду, что, шкурой не дорожишь?» Я: «Ха-ха…». Это – перед его снятием. Вот попался бы!
– Перед снятием пришел Бобриков, веселый, – продолжал Злобин. – Рассказал, как товарищ Берия приказал ему: «Ты – останься». "Я ничего, хозяин сказал, значит, так. А потом пришли, те: «Ваши документы! И провода телефонные длинными ножницами – хрясь! Я подумал: «контрреволюцию кто-то делает».
– После того, как Бобрикова отпустили, он, не в себе, прошел поперек Красной площади, потом: куда, в село к родственникам? Выпил бутылку – не пьянеет, еще прихватил, домой пришел, шут с ним со всем! Уехал срочно – в Рязань, в милицию работать. Пил страшно.