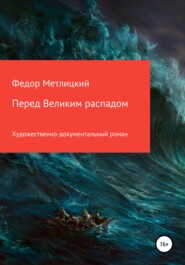По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не усидишь ты здесь, Веничка.
Кадровик, гремя дверцами железного сейфа, сказал заботливо:
– Мы тут подумали. Шеф хочет послать тебя в длительную командировку.
– Нашли выход?
– Что ты! – засуетился кадровик. – Выбили тебе, по разнарядке Минвнешторга, длительную командировку в Штаты. Благодари меня. Жалко мне тебя.
Меня с семьей оформили в командировку в США, в закупочную комиссию в Нью-Йорке. Я уехал первым в ожидании, пока семья вскоре присоединится.
Ночное небо над Нью-Йорком было озарено красным светом, как на другой планете. Но мне было не до новой планеты. Вслед я получил письмо о новом обострении болезни дочери. Рак крови – что-то черное и неумолимое. Так вот откуда ее состояние беспокойства и беспричинного срыва настроений. Откуда взялась эта напасть? В чьих генах она таилась, Кати или моих? Как я позже узнал, жене сказали в больнице, что жить Свете сталось два месяца.
Я встретил жену в аэропорту Кеннеди полуживую. Что она пережила, лежа рядом у изголовья умирающей дочери, я страшился спросить. Только сказала:
– Волосики у нее… вылезли. Кричала: "Мама, зачем ты меня родила!"
И добавила:
– А перед смертью тихо произнесла: «Да, да…» Словно все поняла.
Я не мог слушать, Катя поняла, и замолчала тоже. И годы не сможем говорить о нашей унесенной Свете, пока нас не станет.
Бессильный помочь жене, я приободрял ее, как умел, стихами:
Твое горе железными крыльями
Аж на гребень планеты заброшено.
Боль над мировыми обрывами
Вдруг тебя отвлекла, огорошила.
Но и там – неустойчивой дымкой
Ты живешь, как зайчик пестрит.
Пусть гудит напряжение века,
Чтобы в горе снова не жить!
Пусть останется трепет над бездной
Жизни той великой всегда,
Пусть утонет, как старые беды,
На дороге людей – та беда.
26
Во мне снова возникло странное унижение, когда, после командировки, входил в здание министерства, где провел столько времени. Министра, который, якобы, симпатизировал моему вольнодумству, сместили, и я подозревал, что мое положение стало неясным.
На проходной охрана неожиданно отобрала удостоверение. Сказали, что я уволен, попал под сокращение. Я позвонил, взяла трубку Прохоровна, фальшиво обрадовалась.
Миновал огромный коридор с высоченным потолком. Ужасные крашенные зеленоватой краской, пупырышками стены коридоров, комнаты, которые знал наизусть. Где сидел и ходил, принимал своих и незнакомых деловых людей. Проходили мимо знакомые.
– Как ты?
И уходили, чужие.
Прохоровна как-то странно суетилась. Я был для нее уже отрезанный ломоть.
– Жалко мне тебя. Но что поделаешь – большое сокращение штатов.
Я ощущал то же унижение.
– Как вы, без меня?
– Стареем. Муж еще ловкий. На даче ходит не через калитку, а махает через забор. Зацепится, вот так рукой, и махнет, клок оставит, и дальше. А посуду моет – смех. Как жонглер – на полку кидает. Не бьется? Что ты, еще как. Или – вдруг сдернет со стола клеенку, а приборы – на месте. Родственники – глаза на лоб.
Она, наверно, теперь успокоилась, полюбила низенького невзрачного мужа.
– А как сын?
Она махнула рукой.
– Ничего у него не вышло. Клерком, на маленькую зарплату. Живет в собственном мире, лежит. "Что лежишь?" "Думаю. Ни о чем". Да, делала за него уроки, чертила, иначе сидел бы по ночам, недосыпал. Выхода не было. Думала, у него с мозгами не то.
– А как остальные?
– Шефа сняли "в связи с недоверием". Понадобилось место для кого-то. Лариса стала секретарем в Верховном совете. Далеко пошла, девочка!.. Лида уволилась, куда-то пропала.
Я ушел, навсегда. Была без радости любовь, разлука будет без печали.
***
Когда Света умерла, школа прислала нам соболезнование о безвременной кончине самой талантливой пианистки школы. Там повесили на стену ее большой портрет в черной рамке, впившейся восторженным взглядом во что-то удивительное. Воспоминание о ней среди школьников скоро сгинет навсегда, как о миллиардах неведомых умерших в прошлом. И живут они только в сердцах родных, пока не угасли они, или не угаснут. Но они кровью входят в прошлое и воздействуют на настоящее и будущее. Умершее темное прошлое остается в нас только в археологических находках, иконах, живописи и литературе, выхватывающих из него живые лики людей, которые становятся близкими. Без них история была бы темным хаосом, где мелькая пробегают демоны.
С женой мы никогда о ней не говорим, убрали все, что с ней связано. Каждый из нас заново переживает ее жизнь и смерть в одиночку, ибо личную трагедию нельзя разделить, как и собственную смерть. Хотя почему-то легче вспоминать об умерших наших родителях.
Нас спасла командировка в Америку. Правда, не своей демократией, а невиданной новизной жизни другой стороны планеты, другого конца света, который отодвинул воспоминание о нашем горе.
____
Пока мы с Катей бывали в ссоре, когда бы это ни было, во мне стыло одиночество. Одиночество – это отсутствие близости, хоть с одним человеком. Я знал горькую близость, но всегда хотел еще чего-то. И сам разрушал семью, считая нечто эфемерное выше семьи. Теперь понимаю, не надо было никуда бежать, желать большего, – давно нашел то главное, что в состоянии дать жизнь. Мечта об окончательном наступлении душевного исцеления – выдумка. То время было направленным побегом из полноты жизни, которое ничем не возместить.
Теперь у нас ровная семейная жизнь, иногда прерываемая легкими обидами, когда она замыкается в себе. Мы живем в обоюдной необходимости, не думая о таких юношеских вещах, как любовь. Но я все равно еще ревную, сомневаясь в ее любви. Может быть, любви без ревности не бывает. Жена сомневается во мне:
– Неправда! Тебе просто некуда деться, другим женщинам ты не нужен.
Неужели она любила меня с самого начала, и не страдала ни по кому другому? И потеряла лучшие годы жизни со мной в горечи, что не жила во взаимной любви. Но разве мое беспокойство кончилось бы, если бы понял это раньше?
Разве это не любовь: она много лет ведет дневник, где ежедневно записывает все мои недомогания, давление, температуру, количество и порядок проглатывания таблеток, все мои отправления. Сравнивает данные по годам, делая какие-то заключения. На мне она расширила свои познания в медицине. Приучила меня полагаться только на нее, и врачи ее уважают, а я делаюсь беспомощным, как все старики, опеку над которыми взяли жены. Тем более, я всегда раздражал врачей, стараясь выразить тонкие нюансы моего состояния, а они хотели подогнать под мою болезнь свои представления о болезни.
Ей доступно во мне все, кроме моих духовных переживаний, она их чувствует, но не верит моим словесам о высоком.
Ее подруги постарели, и все реже встречаются вместе. Красавица Елена уехала со своим мужем Осиком в Америку. Может быть, из-за меня. Сейчас, наверно, она колесит по ровным дорогам Америки, или зажила где-то в чистеньком коттеджике, или уже съехала. Где ты, Елена Прекрасная?