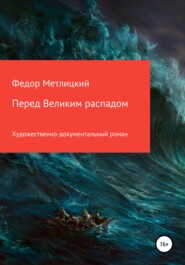По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Встретился с Валеркой Тамариным. Он объявил:
– Фу, наконец, развожусь с женой. Вот только жить негде.
Как он может так легко разводиться? Мне не возможно даже подумать об этом. Вспомнил о звонке из редакции заводской газеты, где мы раньше вместе работали, старая литсотрудница Мирра просила передать Тамарину, чтобы отдал долг. «Ты слабовольный, вот и подпал под его влияние. А я считаю его низким. В беде бросить жену, больную – вот его характеристика. И на войне бросит. По трупам к своей цели идет. Мальчишка? Ерунда. Знает, чего ему надо. Вот и нас за говно считает. Потому что для себя только».
Он вытянул из сумки свое приданое – бумаги, которые забрал с собой.
– Во, разве плохо? – тыльной стороной руки хлопал по своим материалам из разных газет, когда работал в Харькове. – Там интервью с приезжавшими артистами. О первом комсомольце Харькова, и так далее.
– А что, разве плохо? А это – ведь глядится?
Потом пошла его розовая юность – вынимал бумаги и фотографии. Вот он – первокурсник, декан общественного университета молодежи, а вот высказывания декана в больших газетах. Потом – корочки всех цветов.
– Во, де-кан, видишь? Во – путевка в Донбасс. Во! Ну, это так – пропуск в общежитие. Во! Студбилет, а по нему тушью "Разрешается посещать все студенческие общежития Харькова". Понял?
Зашли в "стекляшку" на Волхонке. Там нас встретили приятели, принимали свои дозы "солнцедара" с соевым батончиком. Батя лез лобызаться, стыдился, был мне должен, клялся и все извинялся.
– Как дела? – спросил я.
– Еще не родила, все мучается.
– Как живешь?
– Нерегулярно.
Юра Ловчев распахивал объятия: "Дорогой, дай, я тебя поцелую!"
Коля изображал из себя пророка, молчаливого. Его раздели где-то в подворотне. А может, сам пьяный выбросил портфель с дипломной работой, написанной им кому-то для заработка, пальто и мохеровую кофту.
Юра ворковал:
– Заживет, как на собаке. Скажи ему, – толкал он локтем меня, – Поменьше надо пить! А то, ишь, еще семейный, а туда же. А ты не жри водку, не жри!.. А ты, Валера, чего такой смурной?
Тот сумрачно улыбался:
– Был в командировке. Позвонила жена: "Ты где? Больше не приходи". Ну и ладно, что мне.
Коля оживился.
– А ты иди домой без всяких, я тут прописан, и баста.
Гена:
– Что ж ты? Надо же было предупредить жену, разве так можно? Это любая так скажет. А если бы она ушла не предупредив?
– Ты это мне? Да пошла она…
Коля примирил всех:
– Андрэ Моруа говорил: писателю нужна неразделенная любовь, а не женитьба. Если бы Петрарка женился на Лауре, то не было бы его сонетов. Женщина нужна писателю, как модель для шедевров. Вон, Лев Толстой, страницы его романов – не о Софье Толстой, а о девице Софье Берг.
Валерка мрачно молчал. Шутить не хотелось.
Знавший свою норму Костя наклонился над стаканом.
– Волхонка нас породила, Волхонка и убьет.
Мы ушли с Валеркой Тамариным от ошалевших приятелей. Его возбуждала неизвестность впереди.
– С толстухами покончил. Теперь бы стройненькую.
Шли по сырой улице, как средневековые школяры.
Он продолжал трепаться:
– Да, тебе правильно позвонили. В моей газетке «Сталь и шлак" должен Люсе, а у Аси, что жил у нее, наговорил по ее телефону междугородных переговоров рублей на 25. Говоришь, вне себя там? Надо сходить, покончить с этим.
Он ругал сам себя.
– Я понял одно: чтобы писать гордое, красивое, нельзя затаптывать свое чистое во лжи, компромиссов. А то – тут баба, там баба, и исчезает что-то из души, что дает стимул писать. Красоту надо искать, а не пренебрегать ею. Все великие писатели были чисты и горды, даже в низком. Они ошибались, а не врали.
Как бы не так, думал я. Не в этом дело, а в моей мучительной попытке найти смысл, для чего все это. И слышал болтовню Валерки.
– Да, Бальзак – вот неудачник, знал всего три женщины… Да, и Стендаль, тоже не блиставший красотой, десять лет боготворил какую-то дочь мелкого человека, проститутку. А когда признался, оно спросила: «Что же ты раньше не сказал?» В ту же ночь он обладал ею… Вот Дюма, это да! Красавец, авантюрист (читал Цвейга – считал его любовниц, до тринадцати дошел и бросил). Умирал – сыну два луидора: «Я приехал в Париж с двумя луидорами, и умираю – с двумя».
Почему я люблю этого болтуна, могущего изменить в любую минуту? Он не признает никаких запретов под страхом чекистского револьвера, плюет на установленные домостроевские правила.
– Но сейчас не то время.
– Ха, люди одинаковые во все времена. И на Руси была строгая мораль.
Мы с Валеркой, несчастные, под дождем, добрались до его дома, и я пошел домой.
____
Утром у Светы обнаружили жар.
– У нее температура 39 градусов.
Катя сжимала губы.
– Наверно, надел на голое тельце платье, поддувало, и вот простудилась. И на пол спустил – а ведь стоило день выдержать.
Молчали, курили. Катя пила валерьянку. Кажется, мы забыли о разводе. Всю ночь у Светы меняли белье, была мокрая. К одиннадцати жар снизился.
А вечером ей стало хуже. Я впервые ощутил серьезность положения. Мама металась, заламывая руки.
– Места себе не нахожу. Как в клетке. Боюсь инфекцию занести. Вон, люди за окном, топают по снежку, хохочут, здоровые. Почему только к нам болезни прицепились?