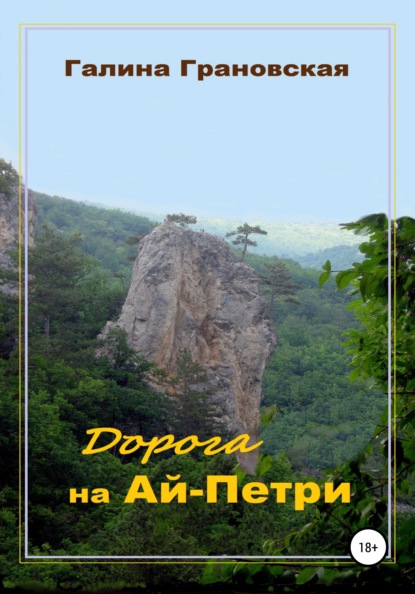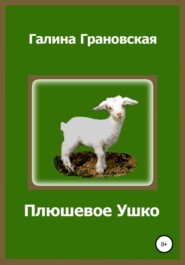По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорога на Ай-Петри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любовь Ивановна взяла протянутую бумажку с адресом и телефоном, и сунула ее в карман халата. Зайти можно. Морская действительно недалеко от больницы, даже ехать не надо, минут десять пешком. Жила Любовь Ивановна в пригороде и второй раз тащиться в город по августовской жаре не хотелось. Так что лучше сейчас выполнить просьбу главврача. А после визита можно будет в новый супермаркет заглянуть, где еще не бывала, посмотреть, какие там цены на продукты. Вообще, неплохо прогуляться. А то, как заведенная, день за днем ходит по одному и тому же маршруту: дом – автобус – работа, работа – автобус – дом…
Может быть, дела у больной не так уж и плохи. И деньги, сколько их не зарабатывай, никогда не бывают лишними. Если действительно будут платить хорошо, можно будет, наконец-то, сделать ремонт в ванной. Любовь Ивановна покачала головой. Похоже, она, еще не видя пациентки, уже соглашается.
Спустившись по ступеням отделения, пересекла больничный садик и, выйдя за ворота, направилась не к остановке, как обычно, а к центральной площади. Хотя машин на улице было много, воздух с утра был еще относительно свежим, и Любовь Ивановна с удовольствием шагала по улице. Перед перекрестком, ожидая пока остановится поток машин, посмотрела на бумажку с адресом: ул. Морская, 7.
И вдруг ощутила прилив крови к лицу. Дом номер семь. Семь. Тот самый дом.
Бывая в центральной части города, она, как-то инстинктивно, всегда обходила этот дом стороной, что было нетрудно, поскольку он стоял в глубине двора.
С юности сформировалась у нее одна – полезная, как она считала, – привычка. Забыть, забыть, забыть, твердила Любовь Ивановна бессчетное множество раз, когда случалось в ее жизни что-то очень неприятное. И так много раз она повторяла это «забыть», что, в конце концов, слово становилось действием. Ей удавалось, если не забыть, то хотя бы притупить чувство обиды за несправедливое к ней отношение. Или смягчить ощущение стыда за какой-нибудь, не очень, с ее точки зрения, хороший поступок с ее стороны.
Но этот дом не подходил под определение неприятностей, даже самых больших. Этот дом был больше, чем самая большая неприятность. Этот дом – дом-катастрофа. Не пойду, решила она. И готова была уже повернуть обратно, но тут на противоположной стороне улицы загорелся зеленый свет и ее, подталкивая со всех сторон, толпа, буквально, вынесла на проезжую часть. И она подчинилась этому потоку, пошла туда, куда шли все. Это было как знак свыше: надо идти вперед. В самом деле, хватит переживать давно пережитое. Надо оставлять прошлое прошлому, надо научиться прощать обиды, как делала это ее бабушка. Нет уже ни той маленькой девочки, ни девушки, которую когда-то смертельно обидели, в настоящий момент улицу переходила сорокапятилетняя женщина, прожившая более-менее достойно уже большую часть своей жизни. Почему бы этой женщине не посмотреть, наконец, новыми глазами на дом и на двор, где прошло ее счастливое детство?
Папа называл их дом «домом солнца». То ли от того, что квартира была солнечной, то ли потому, что на торцовой стене дома сияло яркое мозаичное лето – мозаичное желтое солнце, восходящее над мозаичным голубым морем, которое бороздили белые мозаичные корабли. Дом был построен для семей моряков дальнего плавания. В нем были большие удобные квартиры необычной планировки. Детская площадка во дворе, среди кустов и деревьев, тоже была необычной – песочницу охраняли тюлени, среди цветов два дельфина подставляли свои спинки желающим прокатиться, а в углу площадки под высоким деревом был большой кораблик с рубкой и капитанским мостиком. Сохранились ли они?
Волнуясь, она свернула во двор, прошла еще один и вот, наконец, дом, на торцевой стене которого все так же, как когда-то, сияло солнце и плыли куда-то корабли. Но мозаика местами уже отпала, и серые проплешины проступали на море и на небе, и на кораблях. От былого великолепия детской площадки остался лишь облупленный кораблик, сиротливо кренящийся над грязной песочницей. Почти весь дворовый сад вырублен, и большая часть площадки была теперь залита асфальтом, на котором теснились, блестя под ярким солнцем боками, фарами, тонированными стеклами, иномарки. Дом был и оставался престижным.
Странно, что она и в самом деле в нем когда-то жила.
Нет, не она, тут же поправила себя. Не она, а маленькая, любимая папой и мамой, счастливая девочка. Которая, непонятно за какие провинности, лишилась вдруг в течение короткого времени и мамы и папы и своего счастливого дома…
Мама умерла зимой, когда Любе только-только исполнилось шесть лет. Тогда-то она впервые и услышала это грозное слово: рак.
Наверное, год они жили с отцом вдвоем. Когда он уходил в плавание, к ним на какое-то время переселялась мамина мама, бабушка Клава. Этот – предшкольный – год Любовь Ивановна помнила не очень хорошо. Он слился в ее памяти в один длинный зимний день в детском саду, – ее отдали на пятидневку. Были еще и пугающие длинные ночи в большой и холодной спальне, куда собирали ребят изо всех групп. Когда воспитательница выходила, они рассказывали друг другу сказки и всякие ужастики. Только Любочка ничего никогда не рассказывала, до краев наполненная тоской по дому, по маме и папе, по своей комнате и своей кроватке, над которой висел пушистый коврик с Белоснежкой и гномами. Но в своей кроватке она спала теперь только по выходным.
Вероятно, в один из таких выходных и пришла к ним Любочкина учительница по музыке, мамина подруга тетя Сима, поскольку в тот день все были дома – и папа, и бабушка, и она, Любочка. «Вам надо продолжать учить девочку, – сказала тетя Сима, – у нее абсолютный слух и большие способности». Папа, виновато отводя глаза в сторону, кивал головой, а бабушка, выслушав учительницу, сказала прямо: не получится. «Некому ее водить в музыкальную школу, отец ее, как вы знаете, плавает, а я уже достаточно старая женщина, пока сюда из деревни своей доберусь, устану, а надо еще ребенка из садика забрать и на другой конец города везти в вашу школу… не по силам мне. Да и что даст ей эта музыка»? «Ваша дочь была выдающейся пианисткой», – растерялась тетя Сима. «Музыка ее не спасла, – горько улыбнулась бабушка. – А сколько сил и денег она нам стоила – не рассказать. Нет, пусть Любочка сначала школу закончит, а потом уж и выбирает, кем ей стать, музыкантом или еще кем-то». «Вы же прекрасно понимаете, что потом она музыкантом не станет», – покачала головой тетя Сима. «Мы подумаем, подумаем», – повторял папа, провожая учительницу до двери. Думали ли они или нет, но в музыкальную школу Люба никогда больше не ходила.
Осенью она пошла в первый класс. Их выстроили на торжественную линейку впереди больших школьников, они стояли долго, слушали музыку и слова, которые говорили учителя. Под конец Любочка устала, и все искала глазами папу, ей хотелось, чтобы он поскорее забрал ее из этой большой толпы школьников. Отыскать папу было нетрудно, он один был в красивой морской форме. Когда она в очередной раз посмотрела в его сторону, то увидела, как он оживленно разговаривал с какой-то женщиной с черными длинными волосами. После линейки они подошли к Любочке вместе. «Познакомься, – сказал папа, – это тетя Анфиса». Женщина внимательно посмотрела на нее большими черными глазами, и растянула губы в ненастоящей улыбке, отчего Любочке стало страшно.
Свадьбы не было. Папа просто привел домой тетю Анфису. И не одну. Вместе с мачехой в их доме появилась высокая полная девочка с круглыми черными глазками на очень белом лице.
– Ты ведь хотела иметь сестричку? – спросил папа каким-то не своим, каким-то слишком веселым голосом. – Вот Люся и будет твоей старшей сестрой. Она учится в пятом классе. Вы будете жить в одной комнате, ходить в одну школы и обязательно подружитесь. Ведь не зря же у вас даже имена одинаково начинаются: Лю и Лю. Так мы и будем теперь вас звать: Лю-большая и Лю-маленькая. Красиво, правда?
Любочка едва верила своим ушам. Эта толстая большая девчонка будет жить в ее комнате и называться ее сестрой? Значит, папа будет считать своей дочерью не только ее, Любочку, но и эту противную толстушку? Может быть, он пошутил? Но, судя по его серьезному, напряженному виду, папа не шутил. Ей снова стало страшно. Это не обещало ничего хорошего. Сколько сказок читала ей мама и бабушка о злой мачехе и о злой мачехиной дочке…
– Она не может быть моей сестрой! Сестра это когда у детей и папа и мама одни и те же! А у нас мамы разные, и ты не ее папа, а только мой! – крикнула Любочка и убежала в свою комнату, где спряталась за дверью. Размазывая по лицу слезы, она слышала, как папа произнес, словно извиняясь:
– Не обижайся на нее, Люся, она привыкнет.
– А я и не обижаюсь, – послышался спокойный голос новообретенной сестры. – Она еще маленькая и многого не понимает.
В Любочкиной комнате, поставили еще одну кровать. Туда же принесли папин любимый письменный стол, который до этого стоял в спальне. Детям нужнее, сказал папа.
Теперь после продленки Любу из школы забирала ее «старшая сестра». Нет, она, вопреки Любиным страхам, совсем ее не обижала. Но и дружбы между ними никакой не было. Насколько помнилось Любе, они почти и не разговаривали. Люся была девочкой замкнутой и немногословной, она любила читать и смотреть телевизор. Ее мать также едва интересовалась жизнью Любочки. Впрочем, и своей дочерью ей заниматься было некогда – Анфиса работала секретарем в суде, уходила на работу рано, возвращалась поздно. Теперь каждый в их доме жил сам по себе, был сам по себе, и это было так необычно после той веселой и шумной жизни, которая была раньше, когда жива была Любочкина мама.
Через год после новой женитьбы, отец повесился. Случилось это когда выпал первый снег. Она играли во дворе в снежки с ребятами, когда во двор въехала машина скорой помощи. Вышла Любина соседка и велела детям идти по домам, а потом, наклоняясь, спросила, не хочет ли Люба посмотреть у нее мультики. И увела ее к себе домой, угостила чаем, а потом Люба до вечера смотрела телевизор, пока за нею не пришла Анфиса. Похорон Люба не помнила, возможно, она на них и не была, но помнила, как ее и бабушку везли на машине к бабушке в деревню. Помнила, как сидя на диване в полутемной комнате, она плакала, не веря, что и папы у нее теперь больше нет, и время от времени задавала бабушке один и тот же вопрос: зачем, зачем он так поступил?
– Теперь, деточка, у него уже не спросишь, – гладила ее по волосам шершавой рукой бабушка, прижимая к себе.
И в самом деле, никогда не узнать, что послужило причиной такому необъяснимому поступку – напряжение ли, вызванное долгим рейсом, или были какие-то проблемы в новой семье, или – как хотелось думать Любе – тоска по первой жене, с которой были они как одно целое. «Твоя мама его позвала, – обронила как-то бабушка, – скучно ей там без него». Слова эти навсегда врезались в детскую память.
«Как, как вы могли так со мной поступить?! – став взрослее, глядя в небо, спрашивала Люба родителей. – Как вы могли оставить меня здесь одну?»
Но время шло, и с возрастом она научилась со многим смиряться. Со своим одиночеством, с несправедливостями жизни. С тем, что у нее отняли ее дом. С тем, что не было возможности заниматься музыкой, к которой у нее, по словам ее учительницы, были несомненные способности, и которую она любила также как ее мама.
После похорон бабушка забрала восьмилетнюю Любу жить к себе.
– Пусть остается здесь, – предложила мачеха. Но по ее голосу даже восьмилетняя Люба поняла, что Анфисе совсем не хотелось, чтобы падчерица жила с ней и с Люсей.
– Нет, – сказала бабушка, собирая Любины вещи. – Одна она у меня осталась. Если и с ней что-то случится, век себе этого не прощу.
– Что вы такое говорите? – возмутилась Анфиса. – Да еще при девочке! Я хотя бы раз обидела этого ребенка?
– Что думаю, то и говорю. – Бабушка была прямая женщина. – Думать-то вы мне, хоть и в суде работаете, не запретите?
– Ну, знаете! – С пылающими щеками Анфиса выскочила из комнаты.
И Любочка с бабушкой уехали, взяв с собой чемодан с детскими вещами, и оставив мачехе и ее дочери квартиру в «доме солнца» на Морской.
Больше Люба там не бывала.
Когда ей исполнилось шестнадцать, бабушка решила заявить о Любиных правах на квартиру.
– Дом мой деревенский так и так тебе останется. Но когда поступишь учиться, а там, Бог даст, и работать пойдешь, тебе будет сподручнее в городе жить, – рассуждала вслух, – не придется вставать ни свет, ни заря, чтобы на электричку, или на автобус успеть. Сглупил твой отец, прописал эту, – бабушка не называла Анфису по имени. – И теперь она всю квартиру тебе, конечно, не отдаст, хотя и должна бы. И вместе жить вряд ли захочет, так что один выход, – вздыхала бабушка перед тем, как отправиться в город. – Надо разменивать квартиру на две. Тебе, пока семьи нет, и одной комнаты хватит.
Вернулась поздно вечером, сама не своя. «Бог ей судья, – повторяла трясущимися губами. – Бог ей судья». Никогда еще не видела Любочка бабушку в таком состоянии.
Оказалось, мачеха уже давно, какими-то правдами и неправдами переоформила квартиру на себя, и по всему теперь выходило, что Люба не имеет никаких прав на жилплощадь своих родителей. Соседи советовали подавать в суд, но бабушка отказалась. «Не по силам мне с ней тягаться. Она сама в суде работает. Купила там уж все». Больше о квартире они с бабушкой не говорили. Люба не хотела тревожить дурными воспоминаниями бабушку, а бабушка – Любу.
И вот она снова во дворе дома, где прошло ее раннее детство.
Любовь Ивановна не помнила номера квартиры, помнила только, что та располагалась на третьем этаже, и что в ней всегда было много света. Окна спальни и детской выходили во двор, то есть, на юг, окна кухни и большой комнаты смотрели на восток. Если день был ясным, солнце было повсюду, проникая во все уголки их большой трехкомнатной квартиры. Тогда каждая комната казалась ей огромной.
Снова взглянув на визитку – девятая квартира, – Любовь Ивановна направилась к первому подъезду. И остановилась, словно натолкнувшись на препятствие. Следовало, конечно же, вначале позвонить. Но, нет, заспешила, а теперь, вот, стой. Огромная железная дверь подъезда была украшена кодовым замком. Но на ее счастье, ждать долго не пришлось. Было утро, люди шли на работу, по делам, и не прошло и пяти минут, как она уже поднималась по ступеням широкой лестницы. По три квартиры на лестничной площадке, значит, ей нужен третий этаж. Третий. Этаж. Она уже знала – еще один пролет, и она окажется…
Так и случилось, она стояла перед дверью своей квартиры. Сердце снова нервно застучало, готовое выпрыгнуть из груди. Да, надо было помедленнее подниматься, давно уже не та девочка, которая жила здесь много лет назад, и мигом одолевала все эти ступени и потом, глядя с площадки вниз на папу и маму, кричала: а я первая! Первая! Первая!
Она постояла, успокаиваясь, разглядывая дверь. Дверь, конечно же, была другая, металлическая, под дерево, с блестящим глазком и сияющей ручкой. Тогда таких не водилось. Глубоко вздохнув, Любовь Ивановна нажала кнопку звонка. Кто-то шуршал, медля, за дверью, видимо, изучая гостью в глазок. Слава Богу, традиционного вопроса: кто? – не последовало. Глупый вопрос, и чувствовала себя Любовь Ивановна всегда в таких случаях глупо, пытаясь сообразить, что ответить. Люба? Любовь Ивановна? Или по фамилии назваться?
Наконец, дверь приоткрылась, явив в щель утомленное, слегка недовольное, лицо молодой женщины.
– Меня зовут Любовь Ивановна. Я медсестра, – представилась Любовь Ивановна как можно официальнее. – Главврач областной больницы, Александр Александрович, попросил меня зайти. Извините, что не позвонила.
Похоже, медсестра здесь была нужна как воздух, поскольку лицо мигом преобразилось, просияв широкой улыбкой.
– Проходите!
И, перешагнув порог, Любовь Ивановна попала в свою прихожую. Как и когда-то, прихожая оставалась полупустой и просторной. И тот же вместительный шкаф в углу, екнуло сердце. Тот самый шкаф, который много-много лет назад сделал ее отец. Натуральное дерево, покрытое светлым лаком. Она прикрыла на мгновенье глаза и тут же вспомнила свежий запах этого лака, и черноусого дядьку, с которым отец собирал этот шкаф. А вот двери и здесь поменяли, теперь все они, за исключением двери, ведущей на кухню, были глухими, из темного дерева.