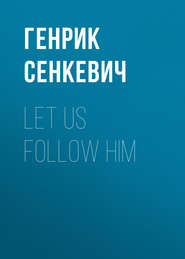По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На следующий день между комиссарами было продолжительное совещание: вручить ли сейчас подарки короля Хмельницкому или ждать, пока он проявит раскаяние и покорность? Решено было покорить его снисходительностью и королевской милостью, и на следующий же день совершился этот торжественный акт. С утра гремели пушки и звонили колокола. Хмельницкий ждал посольство перед своим домом среди полковников, старшин, толпы казаков и черни: ему хотелось, чтобы весь народ видел, какими почестями окружал его даже сам король. Он сел на возвышении под знаменем и бунчуком, в красной отороченной соболем шапке, подбоченившись и поставив ноги на бархатную подушку с золотой бахромой; он ждал комиссаров, окружив себя послами из соседних земель. Среди собравшейся черни раздавался льстивый шепот и радостные крики при виде могучего вождя, в котором они ценили более всего силу. Только так народ и мог представить себе своего непобедимого героя, победителя гетманов, шляхты – словом, ляхов, считавшихся до него непобедимыми. Хмельницкий немного постарел в течение этого года, но не согнулся, и его могучие плечи изобличали силу, способную разрушать государства и создавать новые; его огромное лицо, покрасневшее от злоупотребления спиртными напитками, выражало непоколебимую волю, необузданную и гордую самоуверенность, которую дали победы. Ярость и гнев дремали под складками морщин на его лице, и легко было заметить, что народ склонялся перед их страшным пробуждением, как лес перед бурей. В его глазах, окруженных красной каймой, виднелось нетерпение по поводу того, что комиссары не скоро шли с королевскими дарами; а из ноздрей его валил пар, казавшийся на морозе дымом из ноздрей Люцифера; и в этом пару он сидел весь в пурпуре, мрачный, гордый, среди послов, полковников и моря черни.
Наконец появилась свита послов; во главе шли барабанщики, бившие в котлы, и трубачи с надутыми щеками, извлекавшие из медных инструментов жалобные звуки, точно на похоронах славы и величия Речи Посполитой. За этим оркестром ловчий Кшечовский нес булаву на бархатной подушке, Кульчинский – скарбник киевский – знамя с орлом и надписью; за ними одиноко шел Кисель, худой, высокий, с белой бородой, спускавшейся на грудь, с выражением страдания на породистом лице и глубокой болью в душе. За воеводой шли в некотором отдалении остальные комиссары, шествие замыкал отряд драгун Брышовского под командой Скшетуского.
Кисель шел медленно – в эту минуту он ясно видел, что из-за лоскута разорванного договора, из-под изъявления королевской милости и прощения проглядывала другая, обидная, нагая истина, которую увидели бы даже слепые и услышали глухие, ибо она громко вопияла: «Не изъявление королевской милости несешь ты, Кисель, а сам идешь молить о ней и купить ее ценой булавы и знамени, – идешь пешком к ногам этого холопского вождя, от имени Речи Посполитой, – ты – сенатор и воевода…» Его душа разрывалась на части, и он чувствовал себя ничтожнее червя и пылинки, а в ушах его звучали слова Еремии: «Лучше не жить, чем жить в неволе у мужиков и басурман». Что он, Кисель, в сравнении с лубенским князем, который являлся перед мятежниками не иначе как с нахмуренными бровями, среди запаха серы, огня, войны и порохового дыма – что он? Под гнетом этих мыслей сердце воеводы разрывалось, улыбка навсегда улетела с его лица, а радость – из сердца; он готов был лучше умереть, чем сделать еще один шаг; и все же он шел, ибо его толкало вперед прошлое, все труды и усилия, вся неумолимая логика его прошлых действий…
Хмельницкий ждал его, подбоченясь, с надутыми губами и нахмуренным челом.
Шествие приблизилось наконец. Кисель подошел и остановился в нескольких шагах от возвышения. Барабанщики и трубачи умолкли, и воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только морозным ветром, который хлопал развевавшимся красным знаменем.
– Драгуны, полуоборот кругом! Это был голос Скшетуского.
Все повернули глаза в его сторону. Даже Хмельницкий поднялся на своем возвышении, чтобы взглянуть, что случилось; лица комиссаров побледнели; Скшетуский стоял на стременах, прямой, бледный, с блестящими глазами, с саблей наголо, и, обратившись к драгунам, повторил еще раз команду:
– За мной!
Среди глубокой тишины застучали копыта лошадей по мерзлой земле. Дисциплинированные драгуны повернули лошадей на месте, поручик, став во главе, сделал знак саблей, и отряд двинулся медленно в помещение комиссаров.
Удивление и неуверенность выразились на лицах всех, не исключая и Хмельницкого; в голосе Скшетуского слышалось что-то необыкновенное, но никто, вероятно, не знал, не полагается ли внезапный уход драгун по церемониалу торжества. Один Кисель понял все: что и переговоры, и жизнь комиссаров вместе с конвоем висели в эту минуту на волоске; и, чтобы не дать опомниться Хмельницкому, он начал речь с изъявления королевской милости гетману и всему Запорожью. Но вдруг речь его прервало новое происшествие, которое было тем хорошо, что отвлекло внимание от первого. Старый полковник Дедяла, стоявший подле Хмельницкого, начал грозить булавой воеводе, метаться и кричать:
– Что ты говоришь: король! Король и есть король, не король, а вы, вы – королевичи, князья и шляхта – натворили многое… Ты, Кисель, кровь от крови нашей, отрекся от нас и пристал к ляхам. Довольно с нас твоей болтовни: если нам чего нужно, мы сумеем добыть это саблей.
Воевода с негодованием взглянул на Хмельницкого и сказал:
– Вот в каком повиновении держишь ты своих полковников, гетман!
– Молчать, Дедяла! – крикнул Хмельницкий.
– Молчи! Молчи! Успел напиться, хоть еще рано! – подхватили другие полковники. – Пошел прочь, не то мы тебя за чуб вытащим!
Дедяла хотел продолжать, но его схватили за плечи и вытолкали за круг.
Воевода продолжал свою красивую и гладкую речь, объясняя Хмельницкому, какой чести он удостаивается, получив знаки власти, которыми он пользовался до сих пор самозванно. Король, имея право карать, милует его за то послушание, которое он оказал ему под Замостьем, и имея в виду то, что прежние преступления совершены были не в его царствование. Будет вполне справедливо, если он, Хмельницкий, столь виновный, выразит свою благодарность королю за оказанную ему милость, прекратит кровопролитие и, успокоив чернь, приступит с комиссарами к переговорам.
Хмельницкий молча принял булаву и знамя, которое приказал развернуть над собою. При виде этого чернь завыла так, что несколько минут нельзя было ничего расслышать.
На лице Хмельницкого выразилось удовольствие, и он спустя минуту сказал:
– За столь великую милость, оказанную мне через вас королем, за власть над войском и прощение прошлых преступлений я благодарю покорно. Я всегда говорил, что король ко мне благосклоннее, чем к вам, королевичам. И лучшее доказательство то, что он мне присылает знаки своего расположения за то, что я рубил вам головы; так буду я поступать и впредь, если вы не будете слушаться ни меня, ни короля.
Последние слова Хмельницкий сказал, повысив голос и морща брови, точно начинал воспламеняться гневом; комиссары оцепенели от столь неожиданного ответа.
– Король повелевает тебе, мосци-гетман, прекратить кровопролитие и начать с нами переговоры.
– Не я проливаю кровь, а литовские войска, – резко ответил гетман, – мною получено известие, что Радзивилл вырезал Туров и Мозырь, если это верно, то у меня много ваших пленных, даже знатных, – всем им я велю срубить головы. К переговорам не приступлю теперь, ибо моего войска здесь нет, кроме нескольких полков, многие на зимовке; без войска я не могу начинать. Впрочем, нечего говорить больше на морозе. То, что вы должны были мне вручить, я получил; все видели и знают, что я гетман по королевской воле; теперь же я угощу вас водкой и обедом, я и сам голоден.
С этими словами Хмельницкий пошел в свои палаты, а за ним комиссары и полковники… Посередине большой избы стоял накрытый стол, гнувшийся под тяжестью награбленного серебра, среди которого воевода Кисель мог бы найти и свое собственное, забранное прошлым летом в Гуще. На столе было много свинины, воловьего мяса и татарского пилава; в избе пахло водкой-просянкой, налитой в серебряные ковши. Хмельницкий сел, посадив по правую руку Киселя, по левую – каштеляна Бржозовского, и, указав рукой на водку, сказал:
– Говорят в Варшаве, что я пью ляшскую кровь, а я предпочитаю водку, предоставляя кровь собакам.
Полковники захохотали так, что стены задрожали.
Такую пилюлю поднес Хмельницкий комиссарам перед обедом, и они молча проглотили ее, чтобы, как писал подкоморий львовский, – «не дразнить зверя». И только пот струился по челу Киселя.
Началось угощение. Полковники говядину ели руками. Киселю и Бржозовскому гетман клал на тарелку собственноручно, и начало обеда прошло в молчании, каждый спешил утолить голод. В тишине слышался только хруст костей на зубах собеседников или кряканье пьющих; по временам кто-нибудь произносил слово, которое оставалось без ответа, и лишь потом Хмельницкий, выпив несколько ковшей просянки и закусив говядиной, обратился к воеводе и спросил:
– Кто у вас вел конвой?
На лице Киселя отразилось беспокойство.
– Скшетуский, доблестный кавалер! – ответил он.
– Я его знаю, – сказал Хмельницкий. – А почему он не хотел присутствовать, когда вы мне вручили дары?
– Он не принадлежит к свите, а послан для нашей безопасности; такой он получил приказ.
– А кто ему дал такой приказ?
– Я, – ответил воевода, – я считал непристойным присутствие драгун при поднесении даров; они стояли бы у вас и у нас за спиной.
– А я думал другое; я знаю, что у этого солдата спина не гнется.
– Мы уж не боимся драгун, – вмешался Яшевский. – Они были прежде страшны для нас, а под Пилавцами мы узнали, что это уж не те ляхи, что били когда-то турок, татар и немцев.
– Не Замойские, не Жолкевские, не Ходкевичи, не Хмелевские, не Конецпольские, – прервал Хмельницкий, – а трусливые зайцы, дети, вооруженные железом. Они замерли от страха, как увидали нас, и бежали, хотя татар было не более трех тысяч.
Комиссары молчали: кусок не лез им в горло.
– Прошу покорно, кушайте и пейте, – сказал Хмельницкий, – иначе я подумаю, что наша казацкая пиша не может пройти через ваше панское горло.
– Если у них глотки тесны, мы их можем расширить! – воскликнул Делила.
Развеселившиеся полковники рассмеялись, но Хмельницкий взглянул грозно, и все утихло.
Болевший несколько дней Кисель был бледен, Бржозовский, наоборот, красен, и казалось, что кровь готова у него брызнуть сквозь кожу. Наконец он не выдержал и крикнул:
– Разве мы пришли сюда не обедать, а выслушивать оскорбления?
– Вы приехали для переговоров, – сказал Хмельницкий, – а между тем литовские войска режут и жгут. Мозырь и Туров вырезали, и если это правда, то я четыремстам пленным на ваших глазах велю отрубить головы.
Бржозовский сдержался, хотя кровь в нем кипела.
Так и было: жизнь пленных зависела от каприза гетмана, от одного его мановения; и нужно было все выносить и заискивать, чтобы его успокоить. В этом духе, тихий и скромный по природе, отозвался кармелит Лентовский.
– Бог милостив, – сказал он, – быть может, известия о Турове и Мозы-ре не подтвердятся.
Едва он кончил, как Федор Весняк, полковник черкасский, нагнулся и замахнулся булавой, чтобы ударить кармелита; к счастью, он не достал, потому что их отделяли четыре человека.
– Молчи, поп! – крикнул он. – Не твое дело говорить, что я лгу! Выдь на двор, я научу тебя уважать запорожских полковников!
Наконец появилась свита послов; во главе шли барабанщики, бившие в котлы, и трубачи с надутыми щеками, извлекавшие из медных инструментов жалобные звуки, точно на похоронах славы и величия Речи Посполитой. За этим оркестром ловчий Кшечовский нес булаву на бархатной подушке, Кульчинский – скарбник киевский – знамя с орлом и надписью; за ними одиноко шел Кисель, худой, высокий, с белой бородой, спускавшейся на грудь, с выражением страдания на породистом лице и глубокой болью в душе. За воеводой шли в некотором отдалении остальные комиссары, шествие замыкал отряд драгун Брышовского под командой Скшетуского.
Кисель шел медленно – в эту минуту он ясно видел, что из-за лоскута разорванного договора, из-под изъявления королевской милости и прощения проглядывала другая, обидная, нагая истина, которую увидели бы даже слепые и услышали глухие, ибо она громко вопияла: «Не изъявление королевской милости несешь ты, Кисель, а сам идешь молить о ней и купить ее ценой булавы и знамени, – идешь пешком к ногам этого холопского вождя, от имени Речи Посполитой, – ты – сенатор и воевода…» Его душа разрывалась на части, и он чувствовал себя ничтожнее червя и пылинки, а в ушах его звучали слова Еремии: «Лучше не жить, чем жить в неволе у мужиков и басурман». Что он, Кисель, в сравнении с лубенским князем, который являлся перед мятежниками не иначе как с нахмуренными бровями, среди запаха серы, огня, войны и порохового дыма – что он? Под гнетом этих мыслей сердце воеводы разрывалось, улыбка навсегда улетела с его лица, а радость – из сердца; он готов был лучше умереть, чем сделать еще один шаг; и все же он шел, ибо его толкало вперед прошлое, все труды и усилия, вся неумолимая логика его прошлых действий…
Хмельницкий ждал его, подбоченясь, с надутыми губами и нахмуренным челом.
Шествие приблизилось наконец. Кисель подошел и остановился в нескольких шагах от возвышения. Барабанщики и трубачи умолкли, и воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только морозным ветром, который хлопал развевавшимся красным знаменем.
– Драгуны, полуоборот кругом! Это был голос Скшетуского.
Все повернули глаза в его сторону. Даже Хмельницкий поднялся на своем возвышении, чтобы взглянуть, что случилось; лица комиссаров побледнели; Скшетуский стоял на стременах, прямой, бледный, с блестящими глазами, с саблей наголо, и, обратившись к драгунам, повторил еще раз команду:
– За мной!
Среди глубокой тишины застучали копыта лошадей по мерзлой земле. Дисциплинированные драгуны повернули лошадей на месте, поручик, став во главе, сделал знак саблей, и отряд двинулся медленно в помещение комиссаров.
Удивление и неуверенность выразились на лицах всех, не исключая и Хмельницкого; в голосе Скшетуского слышалось что-то необыкновенное, но никто, вероятно, не знал, не полагается ли внезапный уход драгун по церемониалу торжества. Один Кисель понял все: что и переговоры, и жизнь комиссаров вместе с конвоем висели в эту минуту на волоске; и, чтобы не дать опомниться Хмельницкому, он начал речь с изъявления королевской милости гетману и всему Запорожью. Но вдруг речь его прервало новое происшествие, которое было тем хорошо, что отвлекло внимание от первого. Старый полковник Дедяла, стоявший подле Хмельницкого, начал грозить булавой воеводе, метаться и кричать:
– Что ты говоришь: король! Король и есть король, не король, а вы, вы – королевичи, князья и шляхта – натворили многое… Ты, Кисель, кровь от крови нашей, отрекся от нас и пристал к ляхам. Довольно с нас твоей болтовни: если нам чего нужно, мы сумеем добыть это саблей.
Воевода с негодованием взглянул на Хмельницкого и сказал:
– Вот в каком повиновении держишь ты своих полковников, гетман!
– Молчать, Дедяла! – крикнул Хмельницкий.
– Молчи! Молчи! Успел напиться, хоть еще рано! – подхватили другие полковники. – Пошел прочь, не то мы тебя за чуб вытащим!
Дедяла хотел продолжать, но его схватили за плечи и вытолкали за круг.
Воевода продолжал свою красивую и гладкую речь, объясняя Хмельницкому, какой чести он удостаивается, получив знаки власти, которыми он пользовался до сих пор самозванно. Король, имея право карать, милует его за то послушание, которое он оказал ему под Замостьем, и имея в виду то, что прежние преступления совершены были не в его царствование. Будет вполне справедливо, если он, Хмельницкий, столь виновный, выразит свою благодарность королю за оказанную ему милость, прекратит кровопролитие и, успокоив чернь, приступит с комиссарами к переговорам.
Хмельницкий молча принял булаву и знамя, которое приказал развернуть над собою. При виде этого чернь завыла так, что несколько минут нельзя было ничего расслышать.
На лице Хмельницкого выразилось удовольствие, и он спустя минуту сказал:
– За столь великую милость, оказанную мне через вас королем, за власть над войском и прощение прошлых преступлений я благодарю покорно. Я всегда говорил, что король ко мне благосклоннее, чем к вам, королевичам. И лучшее доказательство то, что он мне присылает знаки своего расположения за то, что я рубил вам головы; так буду я поступать и впредь, если вы не будете слушаться ни меня, ни короля.
Последние слова Хмельницкий сказал, повысив голос и морща брови, точно начинал воспламеняться гневом; комиссары оцепенели от столь неожиданного ответа.
– Король повелевает тебе, мосци-гетман, прекратить кровопролитие и начать с нами переговоры.
– Не я проливаю кровь, а литовские войска, – резко ответил гетман, – мною получено известие, что Радзивилл вырезал Туров и Мозырь, если это верно, то у меня много ваших пленных, даже знатных, – всем им я велю срубить головы. К переговорам не приступлю теперь, ибо моего войска здесь нет, кроме нескольких полков, многие на зимовке; без войска я не могу начинать. Впрочем, нечего говорить больше на морозе. То, что вы должны были мне вручить, я получил; все видели и знают, что я гетман по королевской воле; теперь же я угощу вас водкой и обедом, я и сам голоден.
С этими словами Хмельницкий пошел в свои палаты, а за ним комиссары и полковники… Посередине большой избы стоял накрытый стол, гнувшийся под тяжестью награбленного серебра, среди которого воевода Кисель мог бы найти и свое собственное, забранное прошлым летом в Гуще. На столе было много свинины, воловьего мяса и татарского пилава; в избе пахло водкой-просянкой, налитой в серебряные ковши. Хмельницкий сел, посадив по правую руку Киселя, по левую – каштеляна Бржозовского, и, указав рукой на водку, сказал:
– Говорят в Варшаве, что я пью ляшскую кровь, а я предпочитаю водку, предоставляя кровь собакам.
Полковники захохотали так, что стены задрожали.
Такую пилюлю поднес Хмельницкий комиссарам перед обедом, и они молча проглотили ее, чтобы, как писал подкоморий львовский, – «не дразнить зверя». И только пот струился по челу Киселя.
Началось угощение. Полковники говядину ели руками. Киселю и Бржозовскому гетман клал на тарелку собственноручно, и начало обеда прошло в молчании, каждый спешил утолить голод. В тишине слышался только хруст костей на зубах собеседников или кряканье пьющих; по временам кто-нибудь произносил слово, которое оставалось без ответа, и лишь потом Хмельницкий, выпив несколько ковшей просянки и закусив говядиной, обратился к воеводе и спросил:
– Кто у вас вел конвой?
На лице Киселя отразилось беспокойство.
– Скшетуский, доблестный кавалер! – ответил он.
– Я его знаю, – сказал Хмельницкий. – А почему он не хотел присутствовать, когда вы мне вручили дары?
– Он не принадлежит к свите, а послан для нашей безопасности; такой он получил приказ.
– А кто ему дал такой приказ?
– Я, – ответил воевода, – я считал непристойным присутствие драгун при поднесении даров; они стояли бы у вас и у нас за спиной.
– А я думал другое; я знаю, что у этого солдата спина не гнется.
– Мы уж не боимся драгун, – вмешался Яшевский. – Они были прежде страшны для нас, а под Пилавцами мы узнали, что это уж не те ляхи, что били когда-то турок, татар и немцев.
– Не Замойские, не Жолкевские, не Ходкевичи, не Хмелевские, не Конецпольские, – прервал Хмельницкий, – а трусливые зайцы, дети, вооруженные железом. Они замерли от страха, как увидали нас, и бежали, хотя татар было не более трех тысяч.
Комиссары молчали: кусок не лез им в горло.
– Прошу покорно, кушайте и пейте, – сказал Хмельницкий, – иначе я подумаю, что наша казацкая пиша не может пройти через ваше панское горло.
– Если у них глотки тесны, мы их можем расширить! – воскликнул Делила.
Развеселившиеся полковники рассмеялись, но Хмельницкий взглянул грозно, и все утихло.
Болевший несколько дней Кисель был бледен, Бржозовский, наоборот, красен, и казалось, что кровь готова у него брызнуть сквозь кожу. Наконец он не выдержал и крикнул:
– Разве мы пришли сюда не обедать, а выслушивать оскорбления?
– Вы приехали для переговоров, – сказал Хмельницкий, – а между тем литовские войска режут и жгут. Мозырь и Туров вырезали, и если это правда, то я четыремстам пленным на ваших глазах велю отрубить головы.
Бржозовский сдержался, хотя кровь в нем кипела.
Так и было: жизнь пленных зависела от каприза гетмана, от одного его мановения; и нужно было все выносить и заискивать, чтобы его успокоить. В этом духе, тихий и скромный по природе, отозвался кармелит Лентовский.
– Бог милостив, – сказал он, – быть может, известия о Турове и Мозы-ре не подтвердятся.
Едва он кончил, как Федор Весняк, полковник черкасский, нагнулся и замахнулся булавой, чтобы ударить кармелита; к счастью, он не достал, потому что их отделяли четыре человека.
– Молчи, поп! – крикнул он. – Не твое дело говорить, что я лгу! Выдь на двор, я научу тебя уважать запорожских полковников!