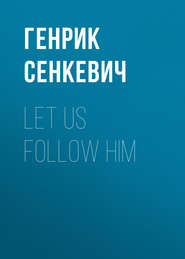По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Этот рыцарь убил Богуна? – спросил казак, заливаясь смехом.
– Что за черт! – крикнул Володыевский, хмуря брови. – Этот посланец слишком много себе позволяет!
– Не сердись, – прервал Заглоба. – Видно, он хороший человек, а что не знает обхождения, так на то он и казак. Ведь это делает вам честь, что, имея такой неказистый вид, вы одержали так много побед. Я и сам присматривался во время поединка, потому что не верил, чтобы такой фертик…
– Оставь! – проворчал Володыевский.
– Не я твой отец, и ты не сердись на меня, но только я скажу тебе, что хотел бы иметь такого сына, и, если хочешь, усыновлю тебя и запишу тебе все свое состояние; совсем не стыдно быть большим человеком в маленьком теле. И князь немногим больше тебя, однако сам Александр Македонский не стоит того, чтобы быть его оруженосцем.
– Что меня бесит, – сказал, успокоившись, Володыевский, – так это письмо Скшетуского: из него ничего нельзя понять. Что он сам не сложил головы над Днестром, слава богу, но княжну он не нашел, и кто поручится, что он найдет ее?
– Правда. Если Господь благодаря нам освободил ее от Богуна, провел через столько опасностей и внушил каменному сердцу Хмельницкого любовь к Скшетускому, то не затем, чтобы он иссох, как щепка, от страданий. Если вы во всем этом не видите перста Божия, то ум ваш тупее сабли. Впрочем, никто не может обладать всеми качествами сразу.
– Я вижу лишь то, – ответил Володыевский, шевеля усиками, – что нам нечего там делать и мы должны сидеть здесь, пока вконец не раскиснем.
– Скорее я раскисну, чем ты, я старше тебя; ты знаешь, что и репа рыхлеет, и сало горкнет от старости. Нужно Бога благодарить, что нашим мучениям обещан счастливый конец. Немало я беспокоился о княжне, больше, чем ты, и немногим меньше, чем Скшетуский, потому что я бы и родную дочь не любил больше. Говорят, что она очень на меня похожа, но я и без этого любил бы ее, и вы не видели бы меня ни таким веселым, ни спокойным, не будь у меня надежды, что ее страдания скоро кончатся. С завтрашнего дня я начну сочинять epitalamium[72 - Эпиталаму (лат.).] в стихах, я очень хорошо пишу стихи, но последнее время я забыл Аполлона ради Марса.
– Что говорить о Марсе! – ответил Володыевский. – Черт бы побрал этого Киселя, всех комиссаров и их трактаты! Весной заключат мир, это как дважды два – четыре. Пан Лонгин, который видел князя, говорил то же.
– Подбипента столько же понимает в политике, сколько свинья в апельсинах. Он при дворе занимался больше своей птичкой, чем делами, и смотрел за ней, как собака за куропаткой. Дал бы Бог, чтоб кто-нибудь подстрелил ее под самым его носом. Но не в том дело. Я не отрицаю, что Кисель изменник, это знает вся Речь Посполитая, но что касается переговоров, то они вилами на воде писаны.
– А что у вас говорят, Захар? – обратился Заглоба к казаку. – Будет война или мир будет?
– До первой травы будет спокойно, а весною погибель нам или ляхам.
– Утешься, Володыевский, я слышал, что чернь везде готовится к войне.
– Будет такая война, какой еще не бывало, – сказал Захар. – У нас говорят, что и турецкий султан придет, и хан со всеми ордами, а наш друг Тугай-бей стоит близко и домой не уходит.
– Ну, утешься, – повторил Заглоба. – Есть предсказание о новом короле, что все его царствование пройдет в войне; вернее всего, что сабли еще долго не лягут в ножны. Придется человеку истрепаться, как метле, от вечной работы, такова уж наша солдатская доля. Если придется нам биться, ты становись поближе ко мне и увидишь прекрасные вещи, узнаешь, как воевали в былые времена. Боже! Теперь уж не те люди, что бывали прежде, и ты не такой, хоть ты храбрый солдат и убил Богуна.
– Верно вы говорите: не такие теперь люди, как прежде… – сказал Захар. Потом он взглянул на Володыевского и покачал головой:
– Чтоб этот рыцарь убил Богуна – ну, ну!
XX
Старый Захар, отдохнув еще несколько дней, вернулся в Киев; а между тем пришло известие, что комиссары вернулись не с надеждой на мир, а с полнейшим сомнением; им удалось лишь продлить перемирие до праздника Святой Троицы, а потом новая комиссия снова должна будет начать переговоры. Но требования и условия Хмельницкого были так непомерны, что никто не верил, чтобы Речь Посполитая согласилась на них. Поэтому с обеих сторон началось спешное вооружение. Хмельницкий посылал посла за послом к хану, чтобы тот, во главе всех своих сил, спешил к нему на помощь; посылал послов и в Стамбул, где давно уже гостил королевский посол пан Бечинский. В Речи Посполитой каждую минуту ждали призыва в ополчение. Пришли известия о назначении новых вождей: подчашего Остророга, Ланцкоронского и Фирлея и о совершенном устранении от военных действий Еремии Вишневецкого, который мог теперь охранять отечество только во главе своих собственных войск. Не только княжеские солдаты и русская шляхта, но даже сторонники прежних правителей возмущались таким выбором полководцев и немилостью к князю и говорили, что если отстранение Вишневецкого, пока была надежда на благополучный исход переговоров, имело свой политический смысл, то устранение его во время войны – непростительная ошибка, ибо только он один мог помериться с Хмельницким и одолеть этого непобедимого народного вождя. Наконец и сам князь приехал в Збараж с целью собрать там как можно больше войск, чтобы быть готовым к войне. Хотя перемирие было заключено, но оно оказалось бессильным. Хмельницкий действительно велел казнить нескольких полковников, которые, вопреки трактату, позволяли себе нападать на замки и полки, разбросанные по стоянкам, но он не мог справиться с массой черни и шайками, которые или не знали о перемирии, или не хотели его знать, или даже не понимали этого слова. Они нападали на границы, отмежеванные договором, нарушая тем все обещания Хмельницкого. С другой стороны, частные и коронные войска, гоняясь за разбойниками, часто переходили Припять и Горынь, заходили в глубь Браплавского воеводства, и там казаки вступали с ними в настоящие битвы, часто ожесточенные и кровавые. Отсюда возникали постоянные жалобы поляков и казаков на нарушения договора, которого в действительности нельзя было соблюсти. Перемирие существовало лишь потому, что Хмельницкий с одной стороны, а король и гетманы – с другой – не выступали, но война фактически началась раньше, чем бросились в борьбу главные силы; первые теплые лучи весеннего солнца по-прежнему освещали горящие деревни, местечки, города и замки, освещали резню и людское горе.
Шайки из-под Бара, Хмельника и Махновки подвигались к Збаражу, грабили, резали и сжигали все на пути. Полковники князя Еремии громили шайки; сам князь в мелких стычках не принимал участия, готовясь в поход с целой дивизией, когда пойдут на войну и гетманы.
Он посылал отряды с приказанием платить кровью за кровь, колом за пожары и грабеж.
Вместе с другими вышел и пан Лонгин Подбипента и одержал победу под Черным Островом; но этот рыцарь был страшен только в бою, с пленными он поступал очень милостиво, и потому его больше не посылали. Но особенно отличался в подобных экспедициях Володыевский, с которым в партизанской войне мог соперничать один только Вершул. Никто не мог так быстро собраться в поход, никто не мог так внезапно преградить путь неприятелю, разбить его бешеным натиском, рассеять на все четыре стороны, поймать, перерезать, перевешать, как Володыевский. Вскоре имя его стало внушать ужас, и в то же время он снискал себе особую милость князя. С конца марта до половины апреля Володыевский победил семь огромных шаек, из которых каждая была втрое сильнее его; он не переставал трудиться, напротив, выказывал все больше охоты, точно черпая ее в пролитой крови. Маленький рыцарь – скорее маленький дьявол – подбивал Заглобу сопутствовать ему в этих экспедициях, так как более всего любил его общество, но шляхтич противился и объяснял свое бездействие так:
– У меня слишком большое брюхо, чтобы трястись попусту, притом же каждому свое. С гусарами биться среди бела дня – это мое дело, для того Бог меня и создал, но охотиться ночью в кустах за этой дичью я предоставляю тебе, так как ты тоненький, как иголка, и везде легко пролезешь. Я старый рыцарь и предпочитаю рвать, как лев, чем разыскивать, как ищейка, по чащам. Наконец, после вечерней зари я должен спать, это – лучшая моя пора.
Володыевский ездил один и побеждал; однажды он выехал в конце апреля и вернулся в половине мая огорченный и печальный, точно его разбили наголову. Все думали, что так и было, но ошибались. Наоборот, в этом долгом и тяжелом походе он дошел до Острога и дальше, до Головни, разбил не шайку черни, а несколько сот человек запорожцев, которых наполовину вырезал и взял в плен.
Тем страннее казалась грусть, затуманившая его веселое от природы лицо. Многие хотели узнать ее причину, но Володыевский не говорил никому ни слова и как только сошел с коня, так тотчас же отправился к князю на совещание в сопровождении двух неизвестных рыцарей, а затем пошел с ними к Заглобе, не останавливаясь, хотя любопытные удерживали его за рукав.
Заглоба с удивлением смотрел на двух великанов, которых никогда в жизни не видал, и лишь их мундиры с золотыми петличками говорили о том, что они служат в литовском войске.
– Заприте двери, – сказал Володыевский, – и велите никого не впускать, нам нужно поговорить об очень важных делах.
Заглоба распорядился и стал беспокойно смотреть на прибывших: их лица не обещали ему ничего хорошего.
– Это князья Булыги-Курцевичи, – сказал Володыевский, представляя двух юношей, – Юрий и Андрей.
– Двоюродные братья Елены! – воскликнул Заглоба.
Князья поклонились и отвечали:
– Двоюродные братья покойной Елены.
Красное лицо Заглобы стало бледно-синим; он начал размахивать руками, точно оглушенный выстрелом из пушки над головою, – не мог произнести ни слова, выкатил глаза и скорее простонал, чем выговорил:
– Как так: покойной?
– Есть вести, – глухо произнес Володыевский, – что княжна убита в монастыре Доброго Николы.
– Чернь удушила в келье двенадцать девушек и несколько черниц, между которыми была и наша сестра, – прибавил Юрий.
Заглоба ничего не ответил, и лишь синее лицо его вдруг так побагровело, что присутствующие боялись апоплексического удара; веки опустились на глаза, которые он прикрыл руками, и из уст его вырвался стон:
– Боже! Боже!
Потом он замолк и долго оставался неподвижным. А князья и Володыевский начали жаловаться:
– Вот, все мы собрались здесь, родные и знакомые твои, княжна, чтобы спасти тебя, но, видно, запоздали с помощью. К чему наша отвага, храбрость и сабли, – ты уж перешла в лучший мир и пребываешь у Царицы Небесной.
– Сестра, – воскликнул великан Юрий, хватаясь за голову, – ты прости нам, а мы за каждую каплю твоей крови прольем реки!
– Да поможет нам Бог! – прибавил Андрей.
И оба рыцаря подняли руки к небу. Заглоба поднялся со скамьи, сделал несколько шагов, пошатнулся, как пьяный, и упал на колени перед иконой.
Вскоре в замке раздался звон колокола, возвещающий полдень, звон этот был таким мрачным, точно это был похоронный звон.
– Нет ее, нет! – сказал опять Володыевский. – Ангелы унесли ее на небо, оставляя нам только слезы и вздохи.
Рыдания потрясали толстое тело Заглобы, другие тоже причитали, а колокола все продолжали звонить.
Наконец Заглоба успокоился. Думали даже, что он с горя устал и уснул на коленях, но он спустя немного поднялся и сел на скамье. Но это был уже другой человек: глаза его покраснели, голова опустилась, нижняя губа отвисла, на лице виднелась беспомощность и какая-то необыкновенная старческая дряхлость. Казалось, что прежний Заглоба, бодрый, веселый, полный энергии, умер, а остался жить только старик, согнувшийся под бременем годов и усталости.
В эту минуту, несмотря на сопротивление стоявшего у дверей слуги, вошел пан Подбипента, и снова начались жалобы и сетования. Литвин вспомнил Розлоги и первую встречу с княжной, ее молодость и красоту, наконец, вспомнил, что есть кто-то, кто несчастнее их всех, это жених ее – Скшетуский, и начал расспрашивать про него маленького рыцаря.
– Скшетуский остался в Корце у князя Корецкого, к которому приехал из Киева, и лежит больной, не видя Божьего света, – сказал Володыевский.
– Что за черт! – крикнул Володыевский, хмуря брови. – Этот посланец слишком много себе позволяет!
– Не сердись, – прервал Заглоба. – Видно, он хороший человек, а что не знает обхождения, так на то он и казак. Ведь это делает вам честь, что, имея такой неказистый вид, вы одержали так много побед. Я и сам присматривался во время поединка, потому что не верил, чтобы такой фертик…
– Оставь! – проворчал Володыевский.
– Не я твой отец, и ты не сердись на меня, но только я скажу тебе, что хотел бы иметь такого сына, и, если хочешь, усыновлю тебя и запишу тебе все свое состояние; совсем не стыдно быть большим человеком в маленьком теле. И князь немногим больше тебя, однако сам Александр Македонский не стоит того, чтобы быть его оруженосцем.
– Что меня бесит, – сказал, успокоившись, Володыевский, – так это письмо Скшетуского: из него ничего нельзя понять. Что он сам не сложил головы над Днестром, слава богу, но княжну он не нашел, и кто поручится, что он найдет ее?
– Правда. Если Господь благодаря нам освободил ее от Богуна, провел через столько опасностей и внушил каменному сердцу Хмельницкого любовь к Скшетускому, то не затем, чтобы он иссох, как щепка, от страданий. Если вы во всем этом не видите перста Божия, то ум ваш тупее сабли. Впрочем, никто не может обладать всеми качествами сразу.
– Я вижу лишь то, – ответил Володыевский, шевеля усиками, – что нам нечего там делать и мы должны сидеть здесь, пока вконец не раскиснем.
– Скорее я раскисну, чем ты, я старше тебя; ты знаешь, что и репа рыхлеет, и сало горкнет от старости. Нужно Бога благодарить, что нашим мучениям обещан счастливый конец. Немало я беспокоился о княжне, больше, чем ты, и немногим меньше, чем Скшетуский, потому что я бы и родную дочь не любил больше. Говорят, что она очень на меня похожа, но я и без этого любил бы ее, и вы не видели бы меня ни таким веселым, ни спокойным, не будь у меня надежды, что ее страдания скоро кончатся. С завтрашнего дня я начну сочинять epitalamium[72 - Эпиталаму (лат.).] в стихах, я очень хорошо пишу стихи, но последнее время я забыл Аполлона ради Марса.
– Что говорить о Марсе! – ответил Володыевский. – Черт бы побрал этого Киселя, всех комиссаров и их трактаты! Весной заключат мир, это как дважды два – четыре. Пан Лонгин, который видел князя, говорил то же.
– Подбипента столько же понимает в политике, сколько свинья в апельсинах. Он при дворе занимался больше своей птичкой, чем делами, и смотрел за ней, как собака за куропаткой. Дал бы Бог, чтоб кто-нибудь подстрелил ее под самым его носом. Но не в том дело. Я не отрицаю, что Кисель изменник, это знает вся Речь Посполитая, но что касается переговоров, то они вилами на воде писаны.
– А что у вас говорят, Захар? – обратился Заглоба к казаку. – Будет война или мир будет?
– До первой травы будет спокойно, а весною погибель нам или ляхам.
– Утешься, Володыевский, я слышал, что чернь везде готовится к войне.
– Будет такая война, какой еще не бывало, – сказал Захар. – У нас говорят, что и турецкий султан придет, и хан со всеми ордами, а наш друг Тугай-бей стоит близко и домой не уходит.
– Ну, утешься, – повторил Заглоба. – Есть предсказание о новом короле, что все его царствование пройдет в войне; вернее всего, что сабли еще долго не лягут в ножны. Придется человеку истрепаться, как метле, от вечной работы, такова уж наша солдатская доля. Если придется нам биться, ты становись поближе ко мне и увидишь прекрасные вещи, узнаешь, как воевали в былые времена. Боже! Теперь уж не те люди, что бывали прежде, и ты не такой, хоть ты храбрый солдат и убил Богуна.
– Верно вы говорите: не такие теперь люди, как прежде… – сказал Захар. Потом он взглянул на Володыевского и покачал головой:
– Чтоб этот рыцарь убил Богуна – ну, ну!
XX
Старый Захар, отдохнув еще несколько дней, вернулся в Киев; а между тем пришло известие, что комиссары вернулись не с надеждой на мир, а с полнейшим сомнением; им удалось лишь продлить перемирие до праздника Святой Троицы, а потом новая комиссия снова должна будет начать переговоры. Но требования и условия Хмельницкого были так непомерны, что никто не верил, чтобы Речь Посполитая согласилась на них. Поэтому с обеих сторон началось спешное вооружение. Хмельницкий посылал посла за послом к хану, чтобы тот, во главе всех своих сил, спешил к нему на помощь; посылал послов и в Стамбул, где давно уже гостил королевский посол пан Бечинский. В Речи Посполитой каждую минуту ждали призыва в ополчение. Пришли известия о назначении новых вождей: подчашего Остророга, Ланцкоронского и Фирлея и о совершенном устранении от военных действий Еремии Вишневецкого, который мог теперь охранять отечество только во главе своих собственных войск. Не только княжеские солдаты и русская шляхта, но даже сторонники прежних правителей возмущались таким выбором полководцев и немилостью к князю и говорили, что если отстранение Вишневецкого, пока была надежда на благополучный исход переговоров, имело свой политический смысл, то устранение его во время войны – непростительная ошибка, ибо только он один мог помериться с Хмельницким и одолеть этого непобедимого народного вождя. Наконец и сам князь приехал в Збараж с целью собрать там как можно больше войск, чтобы быть готовым к войне. Хотя перемирие было заключено, но оно оказалось бессильным. Хмельницкий действительно велел казнить нескольких полковников, которые, вопреки трактату, позволяли себе нападать на замки и полки, разбросанные по стоянкам, но он не мог справиться с массой черни и шайками, которые или не знали о перемирии, или не хотели его знать, или даже не понимали этого слова. Они нападали на границы, отмежеванные договором, нарушая тем все обещания Хмельницкого. С другой стороны, частные и коронные войска, гоняясь за разбойниками, часто переходили Припять и Горынь, заходили в глубь Браплавского воеводства, и там казаки вступали с ними в настоящие битвы, часто ожесточенные и кровавые. Отсюда возникали постоянные жалобы поляков и казаков на нарушения договора, которого в действительности нельзя было соблюсти. Перемирие существовало лишь потому, что Хмельницкий с одной стороны, а король и гетманы – с другой – не выступали, но война фактически началась раньше, чем бросились в борьбу главные силы; первые теплые лучи весеннего солнца по-прежнему освещали горящие деревни, местечки, города и замки, освещали резню и людское горе.
Шайки из-под Бара, Хмельника и Махновки подвигались к Збаражу, грабили, резали и сжигали все на пути. Полковники князя Еремии громили шайки; сам князь в мелких стычках не принимал участия, готовясь в поход с целой дивизией, когда пойдут на войну и гетманы.
Он посылал отряды с приказанием платить кровью за кровь, колом за пожары и грабеж.
Вместе с другими вышел и пан Лонгин Подбипента и одержал победу под Черным Островом; но этот рыцарь был страшен только в бою, с пленными он поступал очень милостиво, и потому его больше не посылали. Но особенно отличался в подобных экспедициях Володыевский, с которым в партизанской войне мог соперничать один только Вершул. Никто не мог так быстро собраться в поход, никто не мог так внезапно преградить путь неприятелю, разбить его бешеным натиском, рассеять на все четыре стороны, поймать, перерезать, перевешать, как Володыевский. Вскоре имя его стало внушать ужас, и в то же время он снискал себе особую милость князя. С конца марта до половины апреля Володыевский победил семь огромных шаек, из которых каждая была втрое сильнее его; он не переставал трудиться, напротив, выказывал все больше охоты, точно черпая ее в пролитой крови. Маленький рыцарь – скорее маленький дьявол – подбивал Заглобу сопутствовать ему в этих экспедициях, так как более всего любил его общество, но шляхтич противился и объяснял свое бездействие так:
– У меня слишком большое брюхо, чтобы трястись попусту, притом же каждому свое. С гусарами биться среди бела дня – это мое дело, для того Бог меня и создал, но охотиться ночью в кустах за этой дичью я предоставляю тебе, так как ты тоненький, как иголка, и везде легко пролезешь. Я старый рыцарь и предпочитаю рвать, как лев, чем разыскивать, как ищейка, по чащам. Наконец, после вечерней зари я должен спать, это – лучшая моя пора.
Володыевский ездил один и побеждал; однажды он выехал в конце апреля и вернулся в половине мая огорченный и печальный, точно его разбили наголову. Все думали, что так и было, но ошибались. Наоборот, в этом долгом и тяжелом походе он дошел до Острога и дальше, до Головни, разбил не шайку черни, а несколько сот человек запорожцев, которых наполовину вырезал и взял в плен.
Тем страннее казалась грусть, затуманившая его веселое от природы лицо. Многие хотели узнать ее причину, но Володыевский не говорил никому ни слова и как только сошел с коня, так тотчас же отправился к князю на совещание в сопровождении двух неизвестных рыцарей, а затем пошел с ними к Заглобе, не останавливаясь, хотя любопытные удерживали его за рукав.
Заглоба с удивлением смотрел на двух великанов, которых никогда в жизни не видал, и лишь их мундиры с золотыми петличками говорили о том, что они служат в литовском войске.
– Заприте двери, – сказал Володыевский, – и велите никого не впускать, нам нужно поговорить об очень важных делах.
Заглоба распорядился и стал беспокойно смотреть на прибывших: их лица не обещали ему ничего хорошего.
– Это князья Булыги-Курцевичи, – сказал Володыевский, представляя двух юношей, – Юрий и Андрей.
– Двоюродные братья Елены! – воскликнул Заглоба.
Князья поклонились и отвечали:
– Двоюродные братья покойной Елены.
Красное лицо Заглобы стало бледно-синим; он начал размахивать руками, точно оглушенный выстрелом из пушки над головою, – не мог произнести ни слова, выкатил глаза и скорее простонал, чем выговорил:
– Как так: покойной?
– Есть вести, – глухо произнес Володыевский, – что княжна убита в монастыре Доброго Николы.
– Чернь удушила в келье двенадцать девушек и несколько черниц, между которыми была и наша сестра, – прибавил Юрий.
Заглоба ничего не ответил, и лишь синее лицо его вдруг так побагровело, что присутствующие боялись апоплексического удара; веки опустились на глаза, которые он прикрыл руками, и из уст его вырвался стон:
– Боже! Боже!
Потом он замолк и долго оставался неподвижным. А князья и Володыевский начали жаловаться:
– Вот, все мы собрались здесь, родные и знакомые твои, княжна, чтобы спасти тебя, но, видно, запоздали с помощью. К чему наша отвага, храбрость и сабли, – ты уж перешла в лучший мир и пребываешь у Царицы Небесной.
– Сестра, – воскликнул великан Юрий, хватаясь за голову, – ты прости нам, а мы за каждую каплю твоей крови прольем реки!
– Да поможет нам Бог! – прибавил Андрей.
И оба рыцаря подняли руки к небу. Заглоба поднялся со скамьи, сделал несколько шагов, пошатнулся, как пьяный, и упал на колени перед иконой.
Вскоре в замке раздался звон колокола, возвещающий полдень, звон этот был таким мрачным, точно это был похоронный звон.
– Нет ее, нет! – сказал опять Володыевский. – Ангелы унесли ее на небо, оставляя нам только слезы и вздохи.
Рыдания потрясали толстое тело Заглобы, другие тоже причитали, а колокола все продолжали звонить.
Наконец Заглоба успокоился. Думали даже, что он с горя устал и уснул на коленях, но он спустя немного поднялся и сел на скамье. Но это был уже другой человек: глаза его покраснели, голова опустилась, нижняя губа отвисла, на лице виднелась беспомощность и какая-то необыкновенная старческая дряхлость. Казалось, что прежний Заглоба, бодрый, веселый, полный энергии, умер, а остался жить только старик, согнувшийся под бременем годов и усталости.
В эту минуту, несмотря на сопротивление стоявшего у дверей слуги, вошел пан Подбипента, и снова начались жалобы и сетования. Литвин вспомнил Розлоги и первую встречу с княжной, ее молодость и красоту, наконец, вспомнил, что есть кто-то, кто несчастнее их всех, это жених ее – Скшетуский, и начал расспрашивать про него маленького рыцаря.
– Скшетуский остался в Корце у князя Корецкого, к которому приехал из Киева, и лежит больной, не видя Божьего света, – сказал Володыевский.