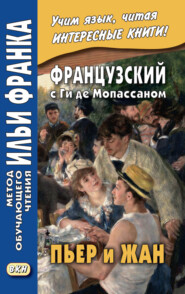По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Милый друг
Автор
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Каким странным тоном она это сказала! Дю Руа спрашивал себя: «Что это? признание?» И теперь почти полная уверенность в том, что она обманывала своего первого мужа, доводила его до бешенства. Ему хотелось ударить ее, задушить, вырвать у нее волосы.
О, когда бы она ответила: «Нет, дорогой мой, если бы я обманула его, то только с тобой», – как бы он ее обнял, поцеловал, как бы он полюбил ее за это!
Он сидел неподвижно, скрестив руки, смотря на небо, слишком взволнованный для того, чтобы размышлять. Он чувствовал только, как внутри его накипала злоба и рос гнев – тот гнев, который тлеет в сердце каждого самца против причуд женского желания. Он впервые испытывал смутную тревогу мужа, который сомневается! Теперь он ревновал – ревновал за покойного, ревновал за Форестье! Ревновал странным и мучительным образом, с примесью ненависти к Мадлене. Раз она обманывала другого, мог ли он ей теперь доверять!
Мало-помалу мысли его успокоились, и, стараясь ожесточить свое сердце, он подумал: «Все женщины – проститутки; надо их брать, но ничего не давать им от своей души».
Душевная горечь подсказывала ему злые и презрительные слова. Однако он не позволял им сорваться с губ. Он повторял про себя: «Мир принадлежит сильным. Нужно быть сильным. Нужно быть выше всего».
Экипаж покатился быстрее. Проехали укрепления. Дю Руа видел перед собой красноватый отблеск неба, похожий на зарево от огромного горна; слышался неясный, необъятный, непрекращающийся гул бесчисленных и разнообразных звуков, глухой и близкий, и отдаленный шум, смутное биение какой-то гигантской жизни, дыхание колосса Парижа, изнемогавшего от усталости в эту летнюю ночь.
Жорж подумал: «Было бы очень глупо с моей стороны портить себе из-за этого кровь. Каждый за себя. Победа принадлежит смелым. Эгоизм – это все. Но эгоизм, ведущий к наживе и к почету, стоит больше, чем эгоизм, ведущий к обладанию женщиной и к любви».
У въезда в город показалась Триумфальная арка; на своих чудовищных ногах она походила на неуклюжего гиганта, готового зашагать по широким улицам, раскинувшимся перед ним.
Жорж и Мадлена снова очутились в ряду экипажей, везущих домой, в желанную постель, все эти безмолвные, обнявшиеся пары. Казалось, что все человечество катится рядом с ними, опьяненное радостью, наслаждением, счастьем.
Молодая женщина, отчасти угадывавшая, что происходило в душе мужа, спросила его своим нежным голосом:
– О чем ты думаешь, друг мой? В продолжение получаса ты не сказал ни слова.
Он ответил с усмешкой:
– Я думаю о всех этих обнимающихся болванах и говорю себе, что, право, есть в жизни вещи более ценные.
Она прошептала:
– Иногда это хорошо.
– Да… хорошо… хорошо… когда нет ничего лучшего!
Мысль Жоржа продолжала с яростной злобой срывать с жизни ее поэтический покров. «Глупо стесняться, отказывать себе в чем бы то ни было, волноваться, мучиться, терзать себе душу, как я это делаю с некоторых пор». Образ Форестье пронесся у него в голове, не вызвав в нем никакого раздражения. Ему показалось, что они помирились, снова сделались друзьями. Ему захотелось даже крикнуть: «Добрый вечер, дружище!»
Мадлена, которую тяготило это молчание, спросила:
– Не заехать ли нам к Тортони съесть мороженого, перед тем как вернуться домой?
Он взглянул на нее сбоку. Ее тонкий профиль, обрамленный белокурыми волосами, был в эту минуту ярко освещен газовым рожком вывески какого-то кафешантана.
Он подумал: «Она красива. Ну что ж! Мы с тобой хорошая пара, милая моя. Но тем, кому придет в голову снова начать меня дразнить из-за тебя, не поздоровится».
Потом он ответил:
– Конечно, дорогая. – И, чтобы скрыть от нее свои мысли, поцеловал ее.
Молодой женщине показалось, что губы ее мужа были холодны как лед.
Впрочем, он улыбался своей обычной улыбкой, подавая ей руку и помогая выйти из экипажа у подъезда кафе.
III
Придя на следующий день в редакцию, Дю Руа подошел к Буаренару.
– Дорогой друг, – сказал он, – я попрошу тебя об одной услуге. В последнее время некоторые господа развлекаются, называя меня Форестье. Мне это начинает надоедать. Будь любезен, возьми на себя труд вежливо предупредить наших сослуживцев, что я дам пощечину первому, кто позволит себе эту шутку. Это уже их дело подумать, стоит ли эта забава удара шпаги. Я обращаюсь к тебе, потому что ты человек разумный и сможешь предупредить неприятные крайности, а также потому, что ты уже раз был моим секундантом.
Буаренар взял на себя это поручение.
Дю Руа отлучился по делам и через час вернулся. Никто не называл его больше Форестье.
Вернувшись домой, он услышал в гостиной женские голоса. Он спросил:
– Кто там?
Слуга ответил:
– Госпожа Вальтер и госпожа де Марель.
У него слегка забилось сердце, потом он подумал: «Ну что ж, будь что будет», – и открыл дверь.
Клотильда сидела возле камина, освещенная светом, падавшим из окна. Жоржу показалось, что, увидев его, она слегка побледнела. Он сначала поклонился госпоже Вальтер и ее двум дочерям, сидевшим справа и слева от матери, точно двое часовых, потом повернулся к своей прежней возлюбленной. Она протянула ему руку; он взял ее и выразительно пожал, как бы говоря: «Я вас люблю по-прежнему». Она ответила на это пожатие.
Он спросил:
– Как вы поживаете? Ведь со времени нашей последней встречи прошла целая вечность.
Она ответила непринужденно:
– Хорошо. А вы, Милый друг?
Потом, обращаясь к Мадлене, прибавила:
– Ты разрешишь мне по-прежнему называть его Милым другом?
– Конечно, моя дорогая, разрешаю тебе все, что тебе вздумается.
В этих словах прозвучал легкий оттенок иронии. Госпожа Вальтер заговорила о празднестве, которое Жак Риваль устраивал в своей холостой квартире, о большом фехтовальном состязании, на котором должны были присутствовать дамы из общества. Она сказала:
– Это будет очень интересно. Но я в отчаянии, нас некому туда проводить: муж как раз в это время будет в отъезде.
Дю Руа сейчас же предложил свои услуги. Она согласилась:
– Мои дочери и я будем вам очень признательны.
Он посмотрел на младшую из сестер Вальтер и подумал: «А ведь она совсем недурна, эта маленькая Сюзанна, совсем недурна». Она была похожа на хрупкую белокурую куклу – миниатюрная, изящная, с тонкой талией, узкими бедрами и грудью; серо-голубые глаза ее отливали эмалью и казались тщательно и причудливо разрисованными кистью художника; кожа у нее была очень гладкая, без единого пятнышка, без малейшего признака румянца, а завитые волосы, умело и легко взбитые, окружали ее головку очаровательным облачком, в самом деле напоминавшим прическу дорогих кукол, какие видишь иногда в руках маленьких девочек, уступающих в росте своим игрушкам.
Старшая сестра, Роза, была некрасива, худа, незаметна. Это была одна из тех девушек, на которых обычно не обращают внимания, с которыми не разговаривают, о которых не вспоминают.
Мать поднялась и обратилась к Жоржу: