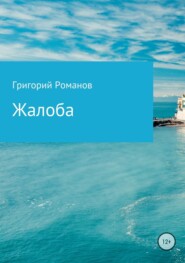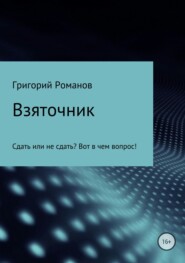По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лыткаринский маньяк
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре, в дежурку заглянул Анаколий Младший. Спросил, забрал ли Николай Павлович бумаги и тоже ушел. Не понятно, на что он надеялся.
Стажер был раздавлен. Разъяренный тигр прорычал внутри него: Да, что ж вам, скотам, все неймется!
Упрекнуть себя ему было не в чем: времени он не тянул. Возможность уничтожить материал действительно появилась только сейчас. До этого – никак. Но, все равно, досада захлестывала его с головой: Как же так? Как же так?! Прям не судьба! Что же делать теперь?
Ответ пришел мгновенно: Отпустить парня.
О боже, опять! Да, опять. Но сейчас эта мысль не показалась ему такой дикой. Молотком в виски еще не стучала, но и безумной уже не казалась. Просто, была пока сырой, требовала осмысления и перевода в практическую плоскость.
Он стал осмысливать и переводить:
Чем же так согрешил студент? Покусился на устои, нормы? Нет. Не может быть мертвечина нормой. Говорят: стабильность, но и стабильности никакой нет. Все ужимается, урезается, сокращается. Ряды врагов все множатся, а в друзьях такие, что враги не нужны.
И никого не сыщешь, кто бы это одобрял. Но все молчат. Все, кто может, кто должен, кто просто обязан говорить, кричать! Все: якобы оппозиция, переплюнувшая в панегириках штатных подпевал. Интеллигенция, совесть нации, взболтнет что-то со хмеля, а потом кается, извиняется, лебезит.
Один Валежников не молчит. И неприятный он, и на Западе учился, и достал всех. Вон, и к отделу уже подобрался. Но, не молчит ведь!
Да, отпустить парня. И с ним – идею. Дать ей хоть где-то продыху, хоть где-то дать зеленый свет! Пусть знает: ее здесь слышат, хотя толком и не понимают.
И самого пацана жалко. Все ж из пальца высосано.
Пока народ дремлет и тупит в телевизор, пойти и вывести с черного хода. До рассвета могут не заметить. А студент едва ли пустится в бега. Уже наутро вернется, с адвокатами, правозащитниками, может, и самим Валежниковым в придачу. И что тогда будет с этими писульками? Выкинут, порвут. Скажут: Гражданин, мы вас впервые видим!
Макаров поднялся, осторожно взял с пульта связку ключей, и двинулся вглубь темного коридора, где в ряду серых, одинаковых дверей, была особенная, которую необходимо отпереть.
Сейчас он был на грани. В шаге от того, чтобы решиться. Не хватало какой-то малости, легкого толчка, откровения: Каким же видят они этот прекрасный новый мир? Кто и где окажется, когда он наступит? Какую цену за него придется заплатить? Парень, расскажи…
Макаров чуть слышно стукнул в дверь шестой камеры. Шаги с другой стороны приблизились и остановились.
– Ты, это, только не думай. Здесь не все такие. – начал он дрожащим голосом: Мне, например, Валежников нравится. И пацаны из роты, тоже, почти все за него. Реальный мужик и вещи правильные говорит. И не боится. Вообще – красава…
Макаров, милый Макаров! Богом клянусь, он бы все тебе рассказал.
Разгоряченным, торопливым шепотом рассказал бы, что храм не может быть военным, а демократия – суверенной. Что мускулы надо иметь, но не обязательно ими трясти. Что враг снаружи не повод для концлагеря внутри. Что богатство может приходить от труда и таланта, а не от близости к дряхлеющему телу. Что нищие в стране, это не стыдно, а немыслимо. Что критика улучшает власть, а не наносит ей смертельное оскорбление. Что невиновность и честь мундира, как параллельные, никогда не должны пересекаться. Что глобальные проекты и великие стройки прекрасны, но человек живет однажды и имеет право на счастье при жизни. Что свобода не меняется на пряник, ибо пряник съедят, а свобода не вернется.
И всей своей историей мы заслужили, чтоб государство не смотрело на нас голодным ястребом, а доброй, синей птицей оберегало, как своих птенцов.
И еще, он сказал бы большое человеческое спасибо, но отказался от твоего благородного предложения. Потому что крест, который взвалили на него, соструган не вами, а от века уготован каждому, кто хочет что-то изменить. Что он не только скорбь, боль и мука, но и величайшая честь, и самая блистательная доблесть. И путь через него не обрывается на краю могилы, но ведет прямиком в бессмертие.
Все бы рассказал он тебе, Макаров. Но, имей он об этом, черт побери, ну хоть какое-то представление!
А он не имел. Был всего лишь напуганным ребенком, запертым в темном углу.
– Извините, вы не можете дать мне телефон. Никто не знает, что со мной. Я хоть матери позвоню. Или сами позвоните, я номер продиктую.
На откровение это явно не тянуло. Тянуло на ушат холодной воды, приводящей в чувство.
Позвонить матери… Он мог позвонить в штаб Валежникова. Мог и его самого набрать. Рассказать, что здесь творится, позвать на помощь, сдать негодяев с потрохами. И не скрываясь, от собственного имени. Впустить их сюда, несмотря на запреты начальства.
Хотел причаститься их правдой, поклониться в ноги Справедливости. Но, это…
Снаружи возникла пауза. Антон не знал, что за ней скрывалось. Не мог знать, что тот, за дверью, стоит сейчас перед выбором: остаться просто хорошим человеком, которым он и так был, или стать Человеком с большой буквы. Пойти на повышение, но не по службе, – по жизни…
– Нет, братан, этого не могу. – виновато прозвучало с той стороны: Узнают, – с работы попрут. А у меня ипотека и жена беременная. Прости.
А у меня ни того, ни другого. И, видно, уже и не будет. – подумал Антон, но вслух ничего не сказал, отойдя от двери. Лишь одним откровением он уже устал делиться: что не имеет решительно никакого отношения к Валежникову. Но, как видно, здесь в этом никого не убедишь.
Макаров вернулся в дежурку. Сейчас он, наверное, и в зеркало постеснялся бы взглянуть: Вот уж, воистину, разбег на рубль – удар на копейку. Это надо, так себя переоценить!
Уязвленное самолюбие требовало себе оправданий: Может, ничего страшного не произошло? Одноклассника, вон, ловили как-то, с понюшкой кокоса. Дали условняк и ничего, живет кем жил. Уже и судимость давно сняли.
С надеждой, что не так все плохо, он повернулся к дежурному:
– Так что с Неждановым?
– Попал!
– Его осудят? Какой-то срок дадут? Что будет-то теперь?
– Сбыт будет. – буднично отозвался дежурный: От десяти лет.
– От десяти?!! За что? – ошалел Макаров от услышанного.
– А нечего было языком мести! – уверенно отрезал дежурный, вроде, и говорить-то больше не о чем.
Макаров смотрел, выпучив глаза: на дежурного, на Фомиченко, который явно все слышал, но и ухом не повел.
Десять лет за «мести языком»? А дальше что, пожизненное за косой взгляд? К стенке за неправильную прическу?
Сколько раз он видел их, был с ними знаком, но сейчас будто перестал узнавать. Словно эти люди сдернули с голов латексные накладки, а под ними… под ними что-то невообразимое! Вурдалаки какие-то. А они сидят, как прежде, и ничуть не стесняются своих вскрывшихся образин!
– Что? – с раздражением спросил дежурный под сверлящим взглядом стажера.
– И вы считаете, это нормально?!
– Я ничего не считаю. Что б считать, на это начальство есть. Им за это деньги платят, они пусть и считают.
– И часто, Романыч, вот так…
– Я откуда знаю? Он здесь не приходящий – в штате состоит. Каждый день кого-то ловит, оформляет. А сколько там левых, сколько правых, мне почем знать! Я вообще, сутки-трое работаю. А он пометок на материалах не оставляет.
Дежурный отвернулся, но тут же повернулся опять:
– Макаров, откуда ты взялся, такой совестливый? И давно ли? Зыркаешь тут на других, а сам?
– Я на десять лет никого не приговаривал.
– Ясен пень! У тебя полномочий таких нет. А были б – все то же самое. Тут не в сроках дело, а в принципе: могёшь ты, или нет.