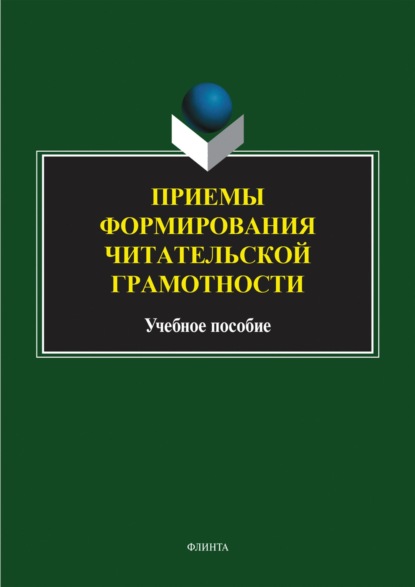По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Питомцы апокалипсиса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Где-то в предгорьях остановился разведотряд унголов. Спутники или дроны Гарнизона его засекли. Накроет все в пределах десяти лиг.
Дарсис велел всем замотаться в тряпки, спрятать голые участки кожи. Пока я расседлывал геккондов и отпускал обреченных животных на волю – спасайтесь, спасайтесь! – Мана достала из сумки индейцев тростниковую циновку и вырезала ножом из нее три соломинки. Дарсис гравиволнами наклонил «саркофаги» жижей к земле, чтобы бушующие дождевые капли не залетели внутрь коробок.
Первой в кислотную ванну полезла Мана. Ее лицо, волосы, уши, шею полностью закрыли повязки, вырезанные из спальника. Зажатая в зубах соломинка торчала над слоями тряпок, как косая пальма над дюнами. Покрасневшие глаза бразильянки смотрели попеременно то на меня, то на Дарсиса.
– Не открывай глаза, чтобы ни случилось, – велел убийца. – Иначе кислота выжжет их.
Мана кивнула, крепко зажмурилась, стиснула замотанными пальцами гравипушку – указательный палец лежал на спуске, дуло глядело вперед. Дарсис натянул тряпку поверх глаз бразильянки, и она, полуприсев, шагнула спиной вперед в «саркофаг». Жижа обтянула всю ее – крепкие бедра, тонкую талию, высокую грудь, замотанную голову, кончики торчащих из-под тряпок кудряшек. Снаружи остался качаться лишь неровный конец соломинки. Узкий путепровод для воздуха.
Плечи Дарсиса резко опустились. Всегда стройный, как кипарис, ананси сгорбился.
Перед ним висела Мана в наклоненной пасти-желудке допотопного растения. Валькирия словно спала внутри стеклянной криогенной капсулы.
– Длины трубки должно хватить до вечера, – прошептал Дарсис. – Если не двигаться.
«Если…» – повторил я про себя. Сколько же сегодня этих «если»! В зубах моих скрипела вторая соломинка. Тряпки на лице частично заслоняли черноту в небе.
Моя очередь нырять. Я сам натянул повязку на глаза. Осталось только шагнуть назад. Залезть в пасть дракону.
– Прости, умник, – вдруг сказал убийца. – Прости за Юлирель.
Я помедлил и кивнул.
«Ты не виноват, Красный убийца. В сотнях других смертей – да, но не в этой».
Моя правая нога будто сама дернулась назад. За подружкой последовала и левая.
«В этой смерти виноват только я».
Теплая ванна накрыла с головой. Тряпки на лице вмиг промокли. Веки защипало, засвербело под ногтями. Кожа вокруг затычек в ноздрях и ушах распухла. Непреодолимая сила потянула вглубь «саркофага». Я не двигался. Ни в коем случае. Сразу засосет как в трясине. Сейчас движение – это смерть.
Я вдохнул ртом. Тонкая струйка воздуха потекла в легкие по тростниковой дудке мимо кислотной прослойки. Мимо теплых мокрых тряпок. Мимо обожжённых губ. Пот выступил на моем лбу и сразу сгорел.
Снаружи загремело. Дождь забарабанил по толстому хитиновому панцирю «саркофага». Лиловую коробку затрясло. Вибрация через жижу докатилась до меня. Зубы застучали. Черт, успокойся, парень, иначе перегрызешь трубку.
Мир за дрожащими стенами «бункера» страдал. Трещали камни, шипели воды. Казалось, рушатся те самые Серые горы, великаны с белыми шапками.
Векторы серого страха и бледно-фиолетового сожаления кружили над двумя другими «саркофагами». Мана с Дарсисом летали в своих мыслях.
Я нырнул в свои.
Лила сказала, что я ненавижу Юлю. Ненавижу самого себя.
Если так, то, когда в степи я спасал тех мизгоров с плененной Лилой от бозонного распыления, когда я с голыми руками, даже без палки выбежал навстречу трем десяткам вооруженным до бровей индейцам, на самом деле я не хотел их спасти.
Когда в Центре я просил Ману сломать мне руку, на самом деле я хотел истечь кровью.
По версии Лилы, я больной на голову самоубийца.
Если так, я не хороший парень. Я не верный друг. Я не любящий брат. Я не добрая душа.
Я – самозваная бактерия общества.
Потому что из-за меня ушел отец. Из-за меня страдает Лена. Все из-за меня страдают. Мама умерла тоже из-за меня.
Но себя угробить ни фига не просто. Тем более скрытно от своего сознательного «я». Поэтому, по словам Лилы, я перенес свои желания на другую. На ту, которую я любил больше всех. Больше всех на свете. На Юлю. Затем пожелал ей смерти. От души.
Когда любимый человек умирает, ты тоже умираешь, часть тебя. Этого я хотел. Самоустраниться.
Откуда только развратная тринадцатилетняя дикарка все это взяла? В индейском стойбище даже радио нет. Тем более талмудов по психологии.
Задумавшись, я чуть не поджал губы и не выпустил соломинку. Вовремя спохватился.
Складно звучит, да не совсем. Не хватало чего-то, что загадило бы мою любовь к Юле. Измазало бы светлое чувство в навозной куче. Иначе как добрый наивный дурачок – моя обожаемая роль, как выяснили – бросил бы возлюбленную в пасть смерти? Мне нужно было оправдаться перед самим собой. И на роль камуфляжа для моих настоящих чувств лучше всего годилась – та-да-да-дам – дурацкая «сыворотка»! «Струю любви» в студию!
Этого Лила, конечно, не сказала. Но она указала направляющие точки. Дальше самому вектор провести не сложно.
Благодаря инъекциям я мог считать ложью все, что угодно. «Сыворотка» развязала руки моему коварному подсознанию. Я мог нуждаться в Юле – нуждаться больше, чем в глотке воды в засуху, черт! – и плеваться при звуках ее имени. Как виляющий хвостом пес, я носил тапки хозяйке и в тоже время считал себя обманутым. Обиженным узником.
Да и в целом так проще было слинять. Легко убивать дорогих людей, когда у тебя есть поводок для своих чувств. Власть над условностями.
Из-за того, что через соломинку проходило мало воздуха, у меня на шее взбухли вены. Мое лицо налилось жаром. Кислота сжигала брови и ресницы, пощипывая под ними кожу.
Я не стал задумываться, взаправду архонт Гертен тот еще говнюк, или здесь тоже мое воображение разыгралось.
Снаружи все изменилось. Больше не грохотало. Чужих векторов стало меньше почти в два раза. Килограммовые капли дождя вырубили Дарсиса. Или убили.
При этой мысли в горячей кислоте стало зябко. Я чуть не попытался обхватить плечи руками и тем самым не ушел в глубину «трясины». Часть меня все еще настойчиво пыталась устранить бактерию общества.
Тишина. Дождь явно закончился. Явно никто не спасался.
У Маны гравипушка, у Дарсиса бозпушка. Только они могут вылезти из «саркофага» и освободить меня. Но один без сознания; кислота, возможно, сейчас затекает ему в рот, сжигает слизистую, подбирается к гортани. Другая почему-то не спускает курок и бьется в панике. Серые вихри страха вертятся над поверхностью «саркофага». Похоже, ее пушка сломалась.
Не успел я составить завещание, как вдали, за несколько километров от ложбины с «саркофагами», замаячили почти бесцветные векторы. Унголы выжили. А мы медленно умираем и, если попытаемся позвать на помощь, умрем прямо сейчас. Десять сантиметров вязкой как свежий цемент кислоты между нашими лицами и свежим воздухом. Руки не поднять, колено не разогнуть. Только пальцы с трудом сгибаются, да губы двигаются. Губы и зубы.
Чёрт знает истинную цель того, что я только что задумал. Очередная подстава подсознания – этого черного ящика со своим кино? Как бы то ни было, я выплюнул соломинку.
И глотнул кислоту.
Сладкий пласт провалился по пищеводу. Во мне словно взорвался килограмм тротила. Желудочный сок древнего растения сцепился в схватке с моим собственным.
Я заклацал челюстями. Рвал и глотал плотную отраву, давясь до смерти. Мне нужен воздух. Я хочу дышать. Но вместо этого жую сок допотопного сорняка, который жует меня изнутри и снаружи. Пищевая цепь замкнулась.
Мои губы, язык, десна онемели. Может, сгорели. Драная жижа вцепилась крепко, за всю ротовую полость, потянула внутрь «саркофага», как трясина.
Моя реакция? Быстрее заработал челюстями.
Сейчас движение – не просто жизнь или смерть, а что-то намного значительнее. Может, надежда.