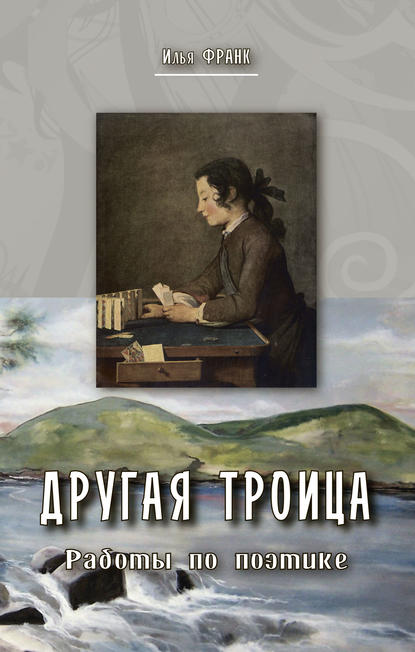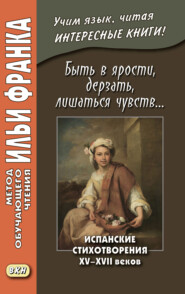По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Другая Троица. Работы по поэтике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В конце романа Адриан Леверкюн, потерявший рассудок (на почве своей болезни), в бреду публично говорит истину (и его, конечно, не понимают):
«И то была всего-навсего бабочка, пестрый мотылек, Hetaera esmeralda, она мне это причинила своим прикосновением, ведьма, русалочка, и я последовал за ней в тенистый сумрак, любый ее прозрачной наготе, и там, хоть она и предостерегла, изловил ту, что была, как лепесток, несомый ветром, изловил и ласкал. Ибо то, что мне причинила, она причинила и передала в любви, – отныне я был посвящен, скреплен был договор».
Имя «Эсмеральда» мелькает в романах Набокова «Ада, или Эротиада», «Смотри на арлекинов!». В незаконченном романе Набокова «Лаура и ее оригинал» упоминается «знаменитая Зеленая Часовня св. Эсмеральды». Набоков мог, полушутя, «освятить» какой-либо из элементов своей оригинальной религии. Вот еще тому пример: Сен-Дамье в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», где damier (по-французски) – шахматная доска[5 - Имя двойника-антипода рассказчика Knight означает как «рыцарь», так и «шахматный конь». И еще оно звучит точно так же, как слово «ночь» – “night”.]. «Святая шахматная доска». («Шахмат», кстати сказать, переводится с персидского как «король умер».)
«Стихи, написанные в Орегоне» Набокова посвящены Эсмеральде. Вот первая строфа:
Esmeralda! Now we rest
Here, in the bewitched and blest
Mountain forests of the West[6 - Эсмеральда! Теперь мы делаем передышкуЗдесь, в заколдованных и благословенныхГорных лесах Запада.].
Это Эсмеральда Гюго, которая, умерев, не умерла, но волшебно (кстати, упоминается и созвучный ей Мерлин) пронизывает все, что окружает лирического героя, причем двуязычный (говорящий на языке французской и немецкой поэзии) лес, в котором он находится, соотнесен с морем:
And I rest where I awoke
In the sea shade – l’ombre glauque —
Of a legendary oak[7 - И я покоюсь там, где я пробудилсяВ морской тени – тени цвета морской волны (франц.) —сказочного дуба;];
Where the woods get ever dimmer,
Where the Phantom Orchids glimmer —
Esmeralda, immer, immer[8 - Там, где лес все темнеет и темнеет,Где мерцают Призрачные Орхидеи —Эсмеральда, всегда, всегда (нем.).].
Еще одно явление Эсмеральды у Набокова – совершенно прозрачное, просвечивающее, под стать соответствующей бабочке. В романе «Смотри на арлекинов!» промелькивает образ, кажущийся незначительным, но которому придают значительность сопровождающие его арлекины:
«…это, кажется, иранские циркачи, гастролирующие в Европе. Мужчины казались арлекинами в штатском, женщины – райскими птицами, дети – золотыми медальонами, и была среди них темноволосая, бледная красавица в черном болеро и желтых шальварах…»
Темноволосая красавица в черном болеро, очевидно, пришла к Набокову из «Доктора Фаустуса»:
«Рядом со мной становится шатеночка в испанском болеро, большеротая, курносая, с миндалевидными глазами, Эсмеральда, и гладит меня по щеке».
В романе «Смотри на арлекинов!» Набоков создает образ автора-двойника, который пишет произведения, являющиеся перевернутыми отражениями произведений самого Набокова. Так, роман Набокова «Машенька» превращается в роман «Тамара»:
«Вглядываясь, совершенно голый, исполосованный опаловыми лучами, в другое, куда более глубокое зеркало, я видел череду моих русских книг и испытывал от увиденного удовлетворение, даже трепет: “Тамара”, мой первый роман (1925), – девушка на заре посреди мглистого сада…»
«Он завел меня в дальний угол и торжественно повел фонарем по прорехам на полке с моими книгами.
– Видите, – воскликнул он, – сколько томов отсутствует. Вся “Княжна Мери”, то есть “Машенька” – а, дьявол! – “Тамара”. До чего я люблю “Тамару” – вашу “Тамару”, конечно, – не Лермонтова или Рубинштейна! Простите меня. Как не запутаться среди стольких шедевров, черт их совсем подери!»
В автобиографической книге Набокова «Другие берега» героиня как бы сгустилась, «соткалась» из окружающего героя мира – словно (воспользуемся сравнением Флоренского) «подлежащее», неизбежно присущее определенному «аналитическому суждению»:
«Я впервые увидел Тамару – выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, – когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. <…>.
В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя “Тамара” появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения».
Тамара является «в изумрудном свете» – вновь перед нами Эсмеральда.
В романе Набокова «Приглашение на казнь» мы встречаем МАРфиньку (пошлую – и от того еще более жуткую – богиню смерти[9 - Там еще появляется «бархатный паук, похожий чем-то на Марфиньку».]), причем в «ТаМАРиных Садах» (перекликающихся с волшебными – “bewitched and blest” – садами АРМиды из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо):
«Вдруг с резким движением души Цинциннат понял, что находится в самой гуще Тамариных Садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми; мгновенно приложив одно к одному, он понял, что не раз с Марфинькой тут проходил…»
Франсуа Бушэ. Ринальдо и Армида. 1734 год. «На блеск ее божественной красы / Бросается воитель безрассудный / Крылатому созданию подобно, / Что обретает смерть в лучах желанных[10 - Перевод (безрифменный) В. С. Лихачева.]»
В романе Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» герой-рассказчик отправляется к своему умирающему сводному брату (и двойнику: «Стало быть – я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене…»). До этого Себастьян приснился брату, сказав что-то очень важное – какое-то «небывалое откровение», которое после пробуждения ускользнуло:
«Я шевельнулся, и тогда его голос долетел до меня последним, настойчивым зовом, и фраза, в которой не было никакого смысла, когда я вынес ее из сна, там, в сновидении, зазвенела, пронизанная таким совершенным значением, столь уверенным намерением разрешить для меня чудовищную загадку, что я все же кинулся бы к Себастьяну, когда бы уже не выбрался наполовину из сна».
Рассказчик спешит на поезд – и забывает взять адрес санатории. В поезде он пытается нащупать звучание адреса: помнит, что там было М, – и думает, что слово начинается на М. Это его выводит на нечто напоминающее MORS (MORTIS), причем звуки М, Р, Т в какой-то момент перевертываются. Зайдя в телефонную кабинку и разглядывая рисунки, рассказчик видит изображение шахматной доски – и вспоминает, что санатория находится в Сен-Дамье:
«Поезд раскачивался и стонал, продираясь сквозь ночь. Как же она называлась, эта санатория? Что-то на “M”. Что-то на “М”. Что-то на… колеса сбились с напористого повтора, затем снова поймали ритм. Конечно, я получу его адрес у доктора Старова. Позвонить ему с вокзала, сразу, как только приеду. <…> Да, Старов должен знать, где он. Мар… Ман… Мат… <…> Сумею ли я попасть туда вовремя, поспеть к нему раньше, чем смерть? Суметь… смерть… суметь… смерть… Он что-то хотел сказать мне, что-то безмерно важное. Тьма, мотающееся купе, забитое раскоряченными манекенами, все казалось мне частью недавнего сна. Что сказал бы он мне перед смертью? Дождь хлестал и плыл по стеклу, и призрачные снежинки сбивались в угол окна и таяли. Кто-то медленно оживал прямо передо мной, шелестел в темноте бумагой, чавкал; потом запалил папироску, ее округлое тление уставилось на меня циклоповым оком. Я должен поспеть вовремя, должен. <…> Мар… Матамар… Мар… Сколько от этого городка до Парижа? Доктор Старов. Александр Александрович Старов. Поезд лязгал на стыках, повторяя за мной “кс”, “кс”. Какая-то неведомая станция. <…> Поезд опять тронулся. Болела спина, кости наливались свинцом. Я попытался закрыть глаза и вздремнуть, но оказалось, что веки выстланы снутри текучими узорами, и крохотная вязанка лучей, похожая на инфузорию, поплыла наискось, опять и опять выезжая все из того же угла. Я вроде бы признал в ней очертания станционного фонаря, который мы давным-давно миновали. <…> Никогда и ничего я не желал так, как желал застать Себастьяна живым, – чтобы склониться над ним и уловить слово, которое он мне скажет. Его последняя книга, мой давешний сон, загадочность его письма – все заставляло меня твердо верить, что какое-то небывалое откровение сойдет с его губ. Если я еще застану их шевелящимися. Если не приду слишком поздно. В простенке между окон помещалась карта, но она ничего не имела общего с курсом моего путешествия. Мое лицо темно отражалось в оконном стекле. <…> Уже прошло шестнадцать часов, и когда я еще доберусь до Мар… Мат… Рам[11 - Мы уже видели перевернутую, отраженную смерть (МР) в имени «Армида» (РМ). В романе Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) богиню смерти зовут «Ремедиос Прекрасная» (она «наделена способностью приносить смерть»).]… Рат… Нет, не “Р”, там “М” в начале. На миг я увидел неясную тень названия, но она расточилась, прежде чем я успел ее ухватить.
<…>
Я припал к стене (эта кабинка помещалась в кафе), выстукивая ее карандашом. Что же, я вообще никогда не смогу добраться до Себастьяна? Кто эти досужие идиоты, пишущие на стенах “Смерть жидам” или “Vive le front populaire[12 - Ура Народному фронту (франц.).]”, или оставляющие на них похабные рисунки? Какой-то безвестный художник начал было чернить квадраты – шахматная доска, ein Schachbrett, un damier[13 - Шахматная доска (нем., франц.).]… В мозгу у меня что-то вспыхнуло, и слово осело на язык: Сен-Дамье! Я выскочил на улицу и остановил проезжее такси. Может ли он отвезти меня в Сен-Дамье, где бы оно ни находилось?»
Сен-Дамье – это место, где жизнь встречается со смертью, подобно тому как на шахматной доске соседствуют светлые и темные квадраты. И это место, где герой встречает своего двойника-антипода (то есть того, кого на самом деле нет, кто лишь обозначает приобщение героя к опыту смерти).
В романе Достоевского «Преступление и наказание» символом смерти выступает отъезд на другой, чужой материк – в Америку. Но и само слово «АМЕРика» перекликается со словом «сМЕРть»:
«– Я, брат, еду в чужие краи.
– В чужие краи?
– В Америку.
– В Америку?
Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок».
Любезный читатель, я тебя, конечно, МОРочу, но таково мое писательское РЕМесло.
Леон Бакст. Эскиз костюма арлекина к балету «Спящая красавица». 1921 год
Одинокий король
(Набоков и Дон Кихот)
Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем «Дон Кихота», а Гамлет – зрителем «Гамлета»? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены.
Хорхе Луис Борхес «Скрытая магия в “Дон Кихоте”»
У него было забавное чувство, что он единственная черная фигура в том, что составитель шахматных задач мог бы назвать «выжидательной-задачей-с-королем-в-углу», типа solus rex[14 - Одинокий король (лат.)].
Владимир Набоков «Бледный огонь»
* * *
Набоков читал лекции о «Дон Кихоте» (и конспектировал книгу Сервантеса по главам, добавляя свои примечания). Почему он это делал? Его заинтересовал главный (в смысле: установочный) роман Нового времени?
Вообще-то Набоков не хотел заниматься Сервантесом, его вынудили (поручили как преподавателю литературы).
«И то была всего-навсего бабочка, пестрый мотылек, Hetaera esmeralda, она мне это причинила своим прикосновением, ведьма, русалочка, и я последовал за ней в тенистый сумрак, любый ее прозрачной наготе, и там, хоть она и предостерегла, изловил ту, что была, как лепесток, несомый ветром, изловил и ласкал. Ибо то, что мне причинила, она причинила и передала в любви, – отныне я был посвящен, скреплен был договор».
Имя «Эсмеральда» мелькает в романах Набокова «Ада, или Эротиада», «Смотри на арлекинов!». В незаконченном романе Набокова «Лаура и ее оригинал» упоминается «знаменитая Зеленая Часовня св. Эсмеральды». Набоков мог, полушутя, «освятить» какой-либо из элементов своей оригинальной религии. Вот еще тому пример: Сен-Дамье в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», где damier (по-французски) – шахматная доска[5 - Имя двойника-антипода рассказчика Knight означает как «рыцарь», так и «шахматный конь». И еще оно звучит точно так же, как слово «ночь» – “night”.]. «Святая шахматная доска». («Шахмат», кстати сказать, переводится с персидского как «король умер».)
«Стихи, написанные в Орегоне» Набокова посвящены Эсмеральде. Вот первая строфа:
Esmeralda! Now we rest
Here, in the bewitched and blest
Mountain forests of the West[6 - Эсмеральда! Теперь мы делаем передышкуЗдесь, в заколдованных и благословенныхГорных лесах Запада.].
Это Эсмеральда Гюго, которая, умерев, не умерла, но волшебно (кстати, упоминается и созвучный ей Мерлин) пронизывает все, что окружает лирического героя, причем двуязычный (говорящий на языке французской и немецкой поэзии) лес, в котором он находится, соотнесен с морем:
And I rest where I awoke
In the sea shade – l’ombre glauque —
Of a legendary oak[7 - И я покоюсь там, где я пробудилсяВ морской тени – тени цвета морской волны (франц.) —сказочного дуба;];
Where the woods get ever dimmer,
Where the Phantom Orchids glimmer —
Esmeralda, immer, immer[8 - Там, где лес все темнеет и темнеет,Где мерцают Призрачные Орхидеи —Эсмеральда, всегда, всегда (нем.).].
Еще одно явление Эсмеральды у Набокова – совершенно прозрачное, просвечивающее, под стать соответствующей бабочке. В романе «Смотри на арлекинов!» промелькивает образ, кажущийся незначительным, но которому придают значительность сопровождающие его арлекины:
«…это, кажется, иранские циркачи, гастролирующие в Европе. Мужчины казались арлекинами в штатском, женщины – райскими птицами, дети – золотыми медальонами, и была среди них темноволосая, бледная красавица в черном болеро и желтых шальварах…»
Темноволосая красавица в черном болеро, очевидно, пришла к Набокову из «Доктора Фаустуса»:
«Рядом со мной становится шатеночка в испанском болеро, большеротая, курносая, с миндалевидными глазами, Эсмеральда, и гладит меня по щеке».
В романе «Смотри на арлекинов!» Набоков создает образ автора-двойника, который пишет произведения, являющиеся перевернутыми отражениями произведений самого Набокова. Так, роман Набокова «Машенька» превращается в роман «Тамара»:
«Вглядываясь, совершенно голый, исполосованный опаловыми лучами, в другое, куда более глубокое зеркало, я видел череду моих русских книг и испытывал от увиденного удовлетворение, даже трепет: “Тамара”, мой первый роман (1925), – девушка на заре посреди мглистого сада…»
«Он завел меня в дальний угол и торжественно повел фонарем по прорехам на полке с моими книгами.
– Видите, – воскликнул он, – сколько томов отсутствует. Вся “Княжна Мери”, то есть “Машенька” – а, дьявол! – “Тамара”. До чего я люблю “Тамару” – вашу “Тамару”, конечно, – не Лермонтова или Рубинштейна! Простите меня. Как не запутаться среди стольких шедевров, черт их совсем подери!»
В автобиографической книге Набокова «Другие берега» героиня как бы сгустилась, «соткалась» из окружающего героя мира – словно (воспользуемся сравнением Флоренского) «подлежащее», неизбежно присущее определенному «аналитическому суждению»:
«Я впервые увидел Тамару – выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, – когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. <…>.
В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя “Тамара” появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения».
Тамара является «в изумрудном свете» – вновь перед нами Эсмеральда.
В романе Набокова «Приглашение на казнь» мы встречаем МАРфиньку (пошлую – и от того еще более жуткую – богиню смерти[9 - Там еще появляется «бархатный паук, похожий чем-то на Марфиньку».]), причем в «ТаМАРиных Садах» (перекликающихся с волшебными – “bewitched and blest” – садами АРМиды из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо):
«Вдруг с резким движением души Цинциннат понял, что находится в самой гуще Тамариных Садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми; мгновенно приложив одно к одному, он понял, что не раз с Марфинькой тут проходил…»
Франсуа Бушэ. Ринальдо и Армида. 1734 год. «На блеск ее божественной красы / Бросается воитель безрассудный / Крылатому созданию подобно, / Что обретает смерть в лучах желанных[10 - Перевод (безрифменный) В. С. Лихачева.]»
В романе Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» герой-рассказчик отправляется к своему умирающему сводному брату (и двойнику: «Стало быть – я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене…»). До этого Себастьян приснился брату, сказав что-то очень важное – какое-то «небывалое откровение», которое после пробуждения ускользнуло:
«Я шевельнулся, и тогда его голос долетел до меня последним, настойчивым зовом, и фраза, в которой не было никакого смысла, когда я вынес ее из сна, там, в сновидении, зазвенела, пронизанная таким совершенным значением, столь уверенным намерением разрешить для меня чудовищную загадку, что я все же кинулся бы к Себастьяну, когда бы уже не выбрался наполовину из сна».
Рассказчик спешит на поезд – и забывает взять адрес санатории. В поезде он пытается нащупать звучание адреса: помнит, что там было М, – и думает, что слово начинается на М. Это его выводит на нечто напоминающее MORS (MORTIS), причем звуки М, Р, Т в какой-то момент перевертываются. Зайдя в телефонную кабинку и разглядывая рисунки, рассказчик видит изображение шахматной доски – и вспоминает, что санатория находится в Сен-Дамье:
«Поезд раскачивался и стонал, продираясь сквозь ночь. Как же она называлась, эта санатория? Что-то на “M”. Что-то на “М”. Что-то на… колеса сбились с напористого повтора, затем снова поймали ритм. Конечно, я получу его адрес у доктора Старова. Позвонить ему с вокзала, сразу, как только приеду. <…> Да, Старов должен знать, где он. Мар… Ман… Мат… <…> Сумею ли я попасть туда вовремя, поспеть к нему раньше, чем смерть? Суметь… смерть… суметь… смерть… Он что-то хотел сказать мне, что-то безмерно важное. Тьма, мотающееся купе, забитое раскоряченными манекенами, все казалось мне частью недавнего сна. Что сказал бы он мне перед смертью? Дождь хлестал и плыл по стеклу, и призрачные снежинки сбивались в угол окна и таяли. Кто-то медленно оживал прямо передо мной, шелестел в темноте бумагой, чавкал; потом запалил папироску, ее округлое тление уставилось на меня циклоповым оком. Я должен поспеть вовремя, должен. <…> Мар… Матамар… Мар… Сколько от этого городка до Парижа? Доктор Старов. Александр Александрович Старов. Поезд лязгал на стыках, повторяя за мной “кс”, “кс”. Какая-то неведомая станция. <…> Поезд опять тронулся. Болела спина, кости наливались свинцом. Я попытался закрыть глаза и вздремнуть, но оказалось, что веки выстланы снутри текучими узорами, и крохотная вязанка лучей, похожая на инфузорию, поплыла наискось, опять и опять выезжая все из того же угла. Я вроде бы признал в ней очертания станционного фонаря, который мы давным-давно миновали. <…> Никогда и ничего я не желал так, как желал застать Себастьяна живым, – чтобы склониться над ним и уловить слово, которое он мне скажет. Его последняя книга, мой давешний сон, загадочность его письма – все заставляло меня твердо верить, что какое-то небывалое откровение сойдет с его губ. Если я еще застану их шевелящимися. Если не приду слишком поздно. В простенке между окон помещалась карта, но она ничего не имела общего с курсом моего путешествия. Мое лицо темно отражалось в оконном стекле. <…> Уже прошло шестнадцать часов, и когда я еще доберусь до Мар… Мат… Рам[11 - Мы уже видели перевернутую, отраженную смерть (МР) в имени «Армида» (РМ). В романе Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) богиню смерти зовут «Ремедиос Прекрасная» (она «наделена способностью приносить смерть»).]… Рат… Нет, не “Р”, там “М” в начале. На миг я увидел неясную тень названия, но она расточилась, прежде чем я успел ее ухватить.
<…>
Я припал к стене (эта кабинка помещалась в кафе), выстукивая ее карандашом. Что же, я вообще никогда не смогу добраться до Себастьяна? Кто эти досужие идиоты, пишущие на стенах “Смерть жидам” или “Vive le front populaire[12 - Ура Народному фронту (франц.).]”, или оставляющие на них похабные рисунки? Какой-то безвестный художник начал было чернить квадраты – шахматная доска, ein Schachbrett, un damier[13 - Шахматная доска (нем., франц.).]… В мозгу у меня что-то вспыхнуло, и слово осело на язык: Сен-Дамье! Я выскочил на улицу и остановил проезжее такси. Может ли он отвезти меня в Сен-Дамье, где бы оно ни находилось?»
Сен-Дамье – это место, где жизнь встречается со смертью, подобно тому как на шахматной доске соседствуют светлые и темные квадраты. И это место, где герой встречает своего двойника-антипода (то есть того, кого на самом деле нет, кто лишь обозначает приобщение героя к опыту смерти).
В романе Достоевского «Преступление и наказание» символом смерти выступает отъезд на другой, чужой материк – в Америку. Но и само слово «АМЕРика» перекликается со словом «сМЕРть»:
«– Я, брат, еду в чужие краи.
– В чужие краи?
– В Америку.
– В Америку?
Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок».
Любезный читатель, я тебя, конечно, МОРочу, но таково мое писательское РЕМесло.
Леон Бакст. Эскиз костюма арлекина к балету «Спящая красавица». 1921 год
Одинокий король
(Набоков и Дон Кихот)
Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем «Дон Кихота», а Гамлет – зрителем «Гамлета»? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены.
Хорхе Луис Борхес «Скрытая магия в “Дон Кихоте”»
У него было забавное чувство, что он единственная черная фигура в том, что составитель шахматных задач мог бы назвать «выжидательной-задачей-с-королем-в-углу», типа solus rex[14 - Одинокий король (лат.)].
Владимир Набоков «Бледный огонь»
* * *
Набоков читал лекции о «Дон Кихоте» (и конспектировал книгу Сервантеса по главам, добавляя свои примечания). Почему он это делал? Его заинтересовал главный (в смысле: установочный) роман Нового времени?
Вообще-то Набоков не хотел заниматься Сервантесом, его вынудили (поручили как преподавателю литературы).