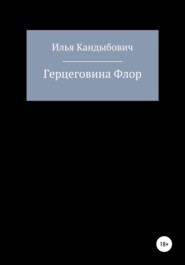По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Песни безумной Женщины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только терпение и разложение гниющих собак в канавах, только их запахи, некогда живых.
Они виляли хвостом до одурения, слишком быстро чтобы выжить.
Когда я шел по улице, раздавленный кот подмигнул мне, я неумолимо подмигнул ему в ответ.
С тех пор мы неразлучные друзья, союз двух мертвецов, только он уже, а я еще пока что нет.
Мы собирали цветы, только он уже разлагался, а я еще нет.
Мы раздавали их прохожим, и они их принимали, только мы еще руками, а они уже нет.
Слой за слоем косили траву, собирали степных пауков на радость мухам, устраивали обряды.
Звали весну, и она приходила.
Приносила нам дары, в виде оттаявшего из-под снега говна, и растворенной бумаги.
Из-под снега так же показывались подснежники-мертвецы.
Они молчали, даже и не думая притвориться во что-то более.
Слышали звон колоколов, по будним дням, по воскресеньям, как и водится, звучал набат.
Мертвый кот прощался со мной, и подмигивал, как и тогда, намекая на исход, на скорый переход на другую ступень познания.
Песня 33.
Мы с тобой сошли на дальней станции, где трава по пояс, где колючие буераки.
И на нас находил приступ, своеобразный акт жестокого самопознания.
Ты держала меня за руку, и сказала, что хочешь в туалет.
Как посмела ты столь презренным образом отвлечь меня от созерцания, которое я мог?
Я сказа чтобы ты сделала это в штаны.
И как же я был глуп и безнадежен в тот момент!
Ведь ты была в юбке, опустилась на тебя.
Как один из отличительных признаков, как соломенная шляпа, что была явно лишней.
Мы играли в прятки в зарослях борщевика.
Мы весело смеялись и скакали, получая не подменное удовольствие от процесса.
И кожа слазила с наших тел, обнажая красное мясо.
Тогда я на блюде подносил тебе нарезанные дольками яблоки, и тебя веселило это.
Женщина без кожи, ты опять запевала песни.
А я снова не мог наслушаться ими.
Тогда гром грозился с небес нам, угрожал ножом и травматическим пистолетом.
И мы бежали как одурелые в укрытие, подальше от него, от его злобы.
Непостижимо долетали до той дальней станции, с которой сошли.
И поезд забирал нас, но только в обратную сторону.
И травы с буераками проносились как осенние мухи, вяло, и за окном.
И мы, обожженные и довольные, сидели и держались за костистые руки.
А гром все так же угрожал нам, и обещал найти.
Песня 34.
Оставалась ли ты такой же мерзко чистой, или до безобразия неприкрытой, это уже не составляло для меня большой загадки.
Я готов был вертеть тебя сутками, крутить в свадебном вальсе днями и ночами.
Прежде всего, это было проявление слабости, а после, веяние моды.
Когда захватила меня, я пытался уйти.
Когда твое гниющее тело пленило меня своей недоступностью, я едва мог удерживать злобу.
Только противоречия вызывали неподдельный интерес к твоей персоне, которой все разрешено.
Только ужас одиночества, мог сотворить нас, и твои песни.
Будь проклят твой звонкий голос, будь проклят твой приятный кашель курильщика, который напоминал о неизбежном.
У меня был такой же, иногда по ночам я просто его сдерживал, чтобы не задохнуться.
Переходя ущелья, перепрыгивая океаны глыб, мы содрогались с новыми силами, с новым покоем делали уверенные шаги.
Нет, ты не была всеми теми шлюхами, а я не был тем Буковски.
Это совсем другая история, совершенно иной исход, но в будущее не заглянуть, можно лишь быть уверенным в крайней точке, необязательно последней.
Валунами скатывались с гор, давили бедолаг своим непомерным весом, но не были в этом виноваты.
Так же мы не были виноваты в пришествии дождя, в мыльном запахе городских бань.