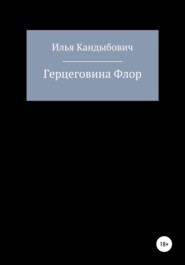По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Песни безумной Женщины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И привычка наступала, наступать на жучков и паучков, поневоле оказавшихся на нашей дороге.
Но дорога сплошная пыль, и наши сандалии вязли в ней очень правдоподобно.
Песня 42.
Трубы несли горячую воду вперемешку с калом, затем выход находили, и мы стояли под их кончинами.
Среди бурных несуразиц, да прикрепленных к стенам советских мощных плакатов, искали преткновение, искали твердь.
Находивши, игрались с космическими бубенцами, прихватывая дрожащими пальцами славных будней недошедший сон.
Обгладывали вселенскую кость, словно собака, словно лопата из неоткуда, и совершенно в никуда.
Разглядывали половинки на висках гигантского младенца, притворялись его матерью.
Ты кормила его своей огромной монструозной грудью, я рожал дерьмо, и возил дерьмо на коляске.
Клали на стены стеклянные тарелки, разбрасывали по потолку фарфоровую утварь, застилая все пространство.
Уберегали друг друга от ночных походов, от подходов к глубинам и высотам, остерегали каждое движение.
Убирали все ненужное, все что мешало дышать, что пылью лежало на никудышных изумрудных скрижалях.
Помнили те времена, и постоянно возвращали их, постоянно скакали извне и ниоткуда, туда-сюда.
Болтались в разные стороны, не могли успокоиться, не могли очнуться хоть где-то, хоть в какое-либо число.
Приметив что-то стоящее, засыпались песком и ожидали пришествие мая, такого теплого.
Пленили друг друга ароматами, следили за каждым движением зорких глаз, пропавших сетчаток.
Были столь велики, насколько же и малы.
Увидев приведения, острили уши гнилыми ножами.
Били в барабаны, с жуткой силой, вызывая чертей на разговор, на милую беседу.
Но ничего не смели трогать руками, ибо нельзя, ненужно.
Песня 43.
Коты, словно перелетные синицы прилетали и осаживались на близкие деревья, словно грозди, сразу помногу.
Они могли летать, мы же с тобой давно утратили такую способность.
Даже прибегая ко всяким ухищрениям.
Бродяга в переулке продал мне волшебную пыльцу, он сказа что я буду летать, но это оказались спиды, и я действительно улетел.
Словно корабль, словно трусость вселенского андеграунда, как будто нехватка кислорода, или его переизбыток.
Как подстреленная утка, как недобитый заяц.
Будто нам и так не хватало, словно нам и так не было по горло, и выше.
Традиционно переменялись места скоротечной жизни загорелого солнца.
По обратной стороне луны гуляли мы, и там было нам место.
Там было так не тесно и свободно.
Там легко дышалось, и свободно держась за руки как тогда, твои песни, были не слышны, ибо вакуум.
Терлись кончиками носов, как эскимосы, ели сырую, еще трепещущую рыбу, объедались ей.
Слышали странные звуки дальних планет, стоны одиночества.
Скакали по всей солнечной системе, хотели и дальше.
Но нас не выпускало.
Неминуемо растягивало и заворачивало каждый раз, при каждой попытке.
Безнадежно становилось и грустно, и лишь песни твои.
Лишь твои песни, о безумная, о Женщина, спасали нас.
Оттачивая мастерство о камни речные, да о морскую гальку, мы проваливались снова.
Чтобы вернуться иногда, хоть когда-то, или вообще никогда.
Допевай быстрее, принимай таблетки, и ложись спать, я разбужу тебя в лучшее время.
Песня 44.
Смешные картинки в их первозданном виде, как будто навсегда, как будто вольные.
На блюдечке подносили дары, не смея поднимать голову.
Преломленный свет больше не казался таким обыденным, он был больше похож на пожарный шланг, на неполный месяц февраля.
По злому, да по-доброму, по морозу сильному, да по раскисшей оттепели.
Неважно, ступали ли мы по песку, или по выжженному асфальту, все тоже.
И ноги превращались в остатки, преодолевая сразу несколько путей до края.
Целая кружка остывала медленнее, живое тело, и вовсе по сути источало холод несравнимый.