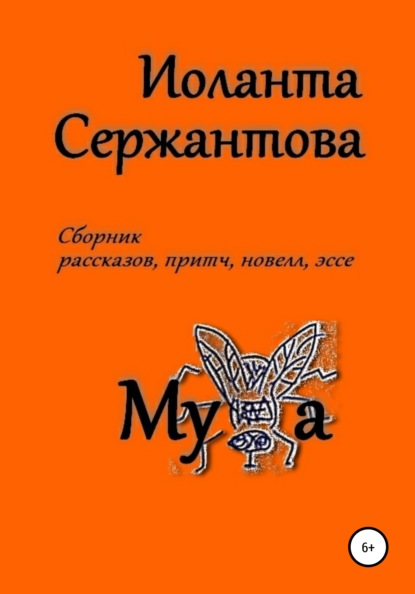По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда я глядел на бабушку со стороны, а мне нравилось делать это, то она казалась хранителем некой тайны, которая заставляла её быть намного более сдержанной, чем хотелось того самой. Неведомые мне по малолетству страдания сомкнули края её век, – с размахом, крепко, прочно. Точно так же бабушка защипывала пирожки, – кончиками широких, натруженных, умелых пальцев. Даже улыбка не лишала её грустного выражения, но мне нравилось и оно, я был готов вечно подглядывать за тем, как, во время чтения или любой работы, бабушка неслышно шевелит губами, будто помогая себе.
И вот однажды вечером, когда я, по обыкновению не спросившись родителей, постучался в дверь квартиры, где жила бабушка, она открыла мне, но не подставила мягкую щёку для поцелуя, как бывало, а сразу отправила мыть руки и усадила за стол. Ах, эти бабушкины котлетки… и вишнёвое варенье с косточками к чаю! Мы недолго посидели за столом, а перед тем, как мне уйти, бабушка принялась нагружать меня какими-то милыми вещицами, которые нравились мне с младенчества. Но, вместо радости обладания тем, о чём давно мечталось втайне, я с испугом поглядел на бабушку и спросил:
– Бабуль, ты чего это?!
Бабушке никогда не была жадной, нет, но в её внезапной чрезмерной щедрости сквозило что-то пугающее. И тогда я услышал тихое, сказанное будто бы не ею самой:
– Я скоро умру… – Мне стало так страшно, что, хлопоча глупыми словами, тут же поторопился уйти.
Через два дня бабушка не проснулась поутру, и забрала с собой всё, что окружало её: вкусно пахнувшие простыни, выстиранные в синем эмалированном тазу на кухонном, выпачканном штукатуркой, табурете, пирожки с капустой и домашним яблочным повидлом, да слепых котят, пускающих носом молочные пузыри.
Переболев потерей бабушки, но так и не смирившись с нею, я часто задавал себе вопрос, – зачем она предупредила меня? Чего я не сделал, чтобы задержать её? Что сделал я?!. И мог ли…
После этой бабушки была и другая, которая известила меня о своём скором уходе. Произнесённая ею фраза оказалась всё той же, и, хотя лет мне было куда больше, чем в первый раз, но она породила точно такой же неподдельный отчётливый ужас.
Дело было накануне Нового года, кухню пучило от аромата свежемолотого кофе и пирогов, на столе передо мной стояло любимое вишнёвое варенье. Подкладывая его в розетку, бабушка так обыденно, между прочим повторила те страшные, слышанные уже мной однажды, слова. Вслушиваясь в них, я продолжал есть вишни, рассчитывая на то, что перепутал, выдумал, что ошибся, в конце концов! Прочтя в моих глазах всё, о чём я промолчал, и имея в виду проживающее с ней семейство, бабушка произнесла с нежной, прощающей смятение улыбкой:
– Я им такой подлости на праздники не устрою. – И сдержала своё слово.
Измученная страхами, что выпадают на долю людей, луна всматривается в освещённые окна, надеясь встретиться с прозрачными глазами поэтов или сияющими – влюблённых, но так бывает далеко не всегда. И тогда луна переводит взгляд в лес, а там, каплями дождя или слёз – обнаруживает отпечатки бегства косуль, поспешного хода оленей, след от завалившегося на бок кабана, да круглые пятна цвета бордо на снегу. Ах… если бы это были вишни… пусть это будут только они.
На этот раз…
… По лесу шли двое, – дед и внук.
– Ой, деда, шишечка! Подними меня на руки скорее, дай-ка сорву!
– Это ещё зачем?
– Зелёненькая, красивая…
– Ну, а губить-то почто? Сосновой шишке чтобы вырасти, не один год надобен, целых три, а дереву, так и вовсе – ого-го.
– Да вон их тут сколько растёт! Можно нарубить, в город отвезти, а там украсить на новый год!
– Ну, встретишь ты новый год, а деревце потом куда, в мусор? Угасают они в загонах городских ёлочных базаров, гибнут не за что ни про что. Думаю, если бы только сосна знала, что не дано ей дожить до первой шишки, стала бы она трудиться, расти?
– А это ж сколько, дед?
– У которой как. Ежели десять годков исполниться, то уж и можно ожидать.
– И сколько?
– По-разному. Бывает, что двадцать пять, а кого и шестьдесят.
– Дней?
– Лет! Сосны да ели до трёхсот лет живут.
– …
Пламя топчет арбузные ломти дров без жалости, хрустят корочкой, мешая вспомнить напоследок, как они были деревьями. Алый от ярости огонь в печи гудит басом:
– Полно вам! Когда уж повзрослеете!
А было ли им время подрасти, да почувствовать, как это? Лопаясь, рассыпаются они на гладкие кубики и шепчутся друг с дружкой, стараются наговориться, припомнить. Но разве ж то можно успеть?
Как вместить в пол часа: колыбели цветенье, ветра песнь, лета жаркую печку и осени тлен. Отрезвленье снегов, реки талой воды в половодье, чьей-то норки призыв: «Здесь уютно и тихо…» Переждать собирался, остался навек. Жаль, недолгий.
Оперевшись ногами покрепче, выбирался наверх. Был раздавлен однажды, – то кто-то его не заметил, а иной подошёл, тёплым ветром подул на макушку, и вокруг положил позаметней камней. Те мешали дышать, но стерпел, перерос и приметнее стал. Обратился росточек в подростка, – тонкий стан, мягкий ворс, не удержит птенца, и, пожалуй, нескладен, – ствол слегка кривоват.
Только вскоре, разошлась детская курточка коры по швам, стала мала. Набираясь помалу ветвей и красы, смог весной два гнезда приютить. А после, большие сугробы – придержать упросила зима… Вроде, руки замёрзли, а, может, врала. Кто их знает, закутанных шалью.
… По лесу шли двое, – дед и внук. Снег был уже довольно глубок, и старый ступал впереди, но шагал небыстро и нешироко, чтобы малый попадал в его следы. Когда люди скрылись из виду, сосновая шишка распахнула подведённые зелёным веки, и перевела дух:
– Не тронули, обошлось, на этот раз…
1 января
Первый день нового года… Он, по обыкновению, всем недоволен.
Сонный и хмурый, с серым, криво отглаженным лицом и тяжелой головой, которую, как многие в этот час, он едва в состоянии оторвать от снежной подушки… Никоим образом вставать не желается ему, но без того, чтобы ему не пробудиться, хотя к полудню, нельзя никак. Ибо без него, собственно, ни за что не начнётся Новый Год… Ведь кто-то должен вовремя дать ему знать, что уже пора.
Вот потому и надо понемногу оживать, перестилать мятые простыни, да идти пересчитывать разбросанные в снегу следы веселья новогодней ночи. Их много об эту пору, и следует подобрать все до единого, чтобы было чисто и празднично!
Трепет прошлогодней листвы на деревьях, как случайно несорванный последний лист календаря в канун нового года, первого его дня, невольно передаётся и нам. Пока он ещё дрожит на ветру, цепляясь за прошлое, но стоит смять его, что остаётся? Картонное дно?! А дальше, после-то что?
Каждый взволнован первыми часами незнакомого ещё никому года, о котором пока никто ничего не знает. Не представленный покуда никем, он – тайна, окутанная хрупким берестяным свитком времён. Знакомые, но непривычные ещё, немного чужие числа, дни недели, рассветы чуточку не те, иные даты. И хотя говорят о том, что всё вокруг крутится подле некой незримой оси Вечности, и любое повторяется из века в век, меняются лишь предметы, коими окружают себя люди, всё равно, – каждый год удивителен по-своему.
Ближе к середине дня, уже совершенно по-весеннему поют длиннохвостые синицы. Одна отважная мелкая мушка морозит крылья и пробует раскатать наст, не обронив себя в чужих глазах. Обстукивая ставни деревьев, дятел перелетает от одного к другому, будит и тормошит, настоятельно требуя проверить, – всё ли в целости, все ли на месте, каждое ли сохранно, не потерялся ли кто при переходе из одного года в другой.
Первый день года! И.… неужели же можно, вот так вот взять, и просто проспать его?!
Мне не нужен…
Перечитайте "Миргород" с его
"Старосветскими помещиками". Это доставит много радости, и тихая грусть, которая,
несомненно, посетит Ваше сердце,
будет означать,
что частица Вас все еще бродит по тропинкам «нищей России».
(Отповедь иммигранту[71 - переезд в другую страну, в поисках лучшей доли, не путать с эмиграцией, хотя она часто не что иное, как завуалированная иммиграция!])
Если бы не было в нём практической нужды, то при первой же возможности я бросил бы календарь в топку, и непременно проследил бы за тем, чтобы он хорошенько прогорел. Дотла. Ему, – зануде, скептику и педанту, не место среди нас, людей. Он навязывает нам неочевидные тяготы начала недели, принуждает к веселью, когда мы не расположены видеть кого-либо, и вызывает чувство ущербности, когда глядим на дождь за окном зимней порой, если судить о её наступлении всё по тому же календарю.