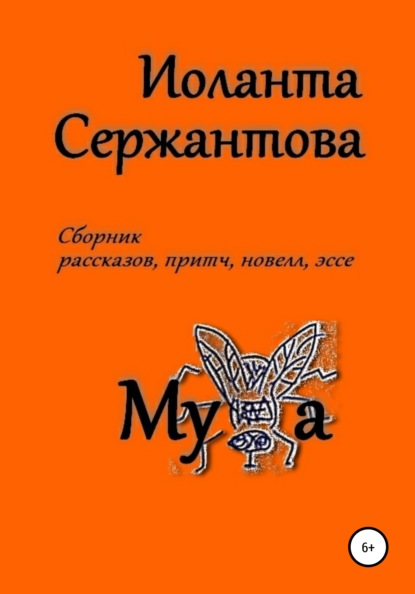По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнь
– Как считаешь, думают птицы наперёд?
– Странный вопрос.
– Ну, они же «не сеют, не жнут»[67 - Евангелие от Матфея 6:26 – Мф 6:26]!
– А сам-то как полагаешь? Они помнят хорошее, от того, что умны, запоминают плохое, из-за этого недоверчивы, а умение летать в них от способности радоваться каждой минуте, каждому взмаху, каждой крошке.
Голые зимние веточки и почками вербы – воробьи на ней, раскачиваясь нервно, ударам сердца в такт. Ржавые бока поползня. Словно вывалянный в пыльной шерсти до подбородка седой дятел и раскрашенный ярким, зелёным – большой, в красной, чуть ли не на всех дятлов, единой ермолке. Наперебой старания синиц испытать прочность оконного стекла. Испуганная внезапной встречей мышь, что глядит доверчиво в глаза, прямо, ожидая милости или казни. Смятение и праведный гнев пламени, пожирающего в печи дрова…
Что ещё нужно тебе, человече, кроме оправданных ожиданий и надежд, наполненных добрыми предчувствиями вечеров и чаяний, коим сбыться не суждено?
А, может, и не так всё? И впредь суждение об определённом на нашу долю, лишь гадание на листве, что срывает ветер дрожащей, бледной до призрачности рукой.
Почему никто никогда не объяснит наперёд, что и как будет, которое случается после чего, и каким манером оно вообще пойдёт всё… если произойдёт?
Отчего молчат все те, кто знает уже чуть-чуть о том сбывшемся, несправедливом прошлом? Хотят, чтобы мы познали сами, как оно, когда уж ничего не исправить? Казнились чтоб, да поглядеть со стороны злорадно?! Вряд ли так-то.
Свысока своего невежества, вовремя не замечаем мы толкований, не слышим наставлений, пренебрегаем намёками. Не жалея, не стараясь возжечь особо, ломаем спички часов и лет. Минуя жизнь, провожаем её взглядом из-за ширмы суетности, спешим к конечной станции, как будто бы она и есть то, ради чего вся эта затея.
И если вдруг кто-то, – холодную руку на плечо, или шепнёт нечто на ухо в темноте, – принимаем всерьёз, но озарения, грозами, что пугают сильно, забываются скоро. Как бы и не было их совсем, ровно жизни той.
Жизнь… отвлекает нас от главного
Жизнь постоянно отвлекает нас от главного, – от поисков смысла в ней.
Весну проводим, отбиваясь от комаров, осенью выпроваживаем из дому мух, что без спроса намереваются остаться зимовать бок о бок с нами, лето коротаем в поисках тени, а остальную часть года одолеваем сугробы, либо бежим от объятий голого льда, что так и тянет на себя, пытаясь уложить рядом, уронив навзничь, дабы вместе поглядеть в покрытое веснушками звёзд небо или же, уронив ничком, совместно проводить взглядом последний уходящий в никуда экипаж. Впрочем, подчас, даже находясь в обычном положении, попадаешь в столь нелепые ситуации…
Некоторое время тому назад, мне довелось быть свидетелем одного странного случая, который, как те мошки, витая в сознании, мешает сосредоточиться на обретении истины, а посему, после недолгих сомнений, я порешил выговориться. Авось сделается немного легче, и смогу заняться, наконец, делом.
Неделей или двумя ранее, посреди дня, на одной из аллей городского парка я встретил некую молодую особу. В сопровождении спутника, как стало понятно позже из разговора, своего дяди, она каталась на велосипеде. Не обгоняя друг друга, парочка размеренно и чинно крутила педали, с тою лишь разницей, что девица восседала на дамском, складном велосипеде, а мужчина на подходящем для этих целей, мужеском, крепком, неразборном, вполне присущем его полу и званию.
По всё время этой прогулки парочка вела промеж собой беседу, причём было заметно, как девица нервна, а её спутник озадачен. Не имея привычки прислушиваться к стороннему размену чувств и мыслей, из-за усилий, что прилагала к словам девица, и ветра, который дул в направлении меня, я всё же слышал каждое произнесённое слово.
– Дядя, мне кажется, что мы должны обменяться машинами. – Недвусмысленно капризничая, требовала девица.
– Моя дорогая, – Говорил мужчина ей в ответ, явно прилагая немало стараний, чтобы скрыть вполне понятное негодование, – вы сами выбирали, на чём ехать, я не неволил. К тому же, исходя из того, какой длины у меня ноги, мне было бы неловко, да просто немыслимо управляться с вашим велосипедом!
– Дядя! Вы должны! – Строго и властно заявила девица.
– О чём вы, моя милая? – Мужчина выглядел более, чем смущённым.
– Вы должны быть более сговорчивы! – Тон, с которым были произнесены эти слова, звучал неприятно и оскорбительно даже для меня, совершенно постороннего человека.
Проглотив своё негодование, мужчина смолчал, и быть может, я никогда не узнал бы, чем закончился их спор, если бы навстречу, из-за поворота аллеи не выдвинулся конный полицейский.
Не сбавляя хода, барышня повернула руль в его сторону, и с криками:
– Господин полицейский! Господин полицейский! Помогите! Как хорошо, что вы здесь! Только вы один в состоянии мне помочь! – Едва не бросилась под ноги его лошади.
Полицейский, состроив покровительственную мину, натянул поводья, грузно спешился и поинтересовался, что же произошло, и кто нуждается в его участии. Ловко изобразив сожаление, и выказав подлую смекалку, коей обладает редкий мужчина, барышня произнесла:
– Господин полицейский, моему дяде нехорошо, пожалуйста, помогите доставить его домой.
– Но ваши велосипеды… – начал было служивый, в ответ на что девица, с жаром отбросив надоевшую ей машинку в кусты, ухватилась за руль принадлежащего дяде велосипеда:
– Я поеду на нём, а вы помогите моему любимому дядюшке!
Полицейский подсобил взобраться опешившему[68 - лишиться лошади, быть в замешательстве] мужчине позади себя на лошадь, а девица, управляя понравившемся ей велосипедом, весело покатилась вперёд, указывая путь.
С победным, откровенно хищным видом она проехала мимо меня, даже не удостоив случайным взглядом, чтобы удостовериться, какое впечатление оставила о себе. Девица добилась того, чего хотела, и, кроме этого, её не заботило больше ничего.
Жизнь… Она постоянно отвлекает нас от главного…
Зимний лес
I
Поползень насмешливо и сочувственно поглядывал на воробья, который, неумело подражая ему, долбил что-то примёрзшее ко дну выстланной мхом широкой чаши из собранной горстью корней трёх сросшихся дубов. Смотрел недолго, а после, как не выдержал, тряхнул гладко зачёсанной назад причёской, и принялся тихо ворчать:
– Эх, молодёжь! Ну, и откуда только клювы у вас растут. Ничего-то вы не умеете, никакого от вас толку… Так вот надо делать это, так, так, так. – Внятно учил поползень, ударяя тонким клювом не прямо, как пытался воробей, но с небольшим наклоном. Войдя в раж, он расставил лапы для надёжности, и принялся тюкать без остановки, пока не запыхался. – Видишь?! Если ты правша, бей справа, левша, так от левого крыла. Понятно тебе?! – Переводя дух, наконец, спросил он.
Пока поползень объяснял, как правильно пользоваться тем, что имеешь, на донышке набралось достаточно крошек, и воробей, довольный тем, что добился своего, молча кивал головой, а сам подбирал, подбирал, подбирал крошки, пока чаша не сделалась совершенно пуста.
Ну, что ж, отдавая должное смекалке воробья, как не поинтересоваться тем, что стал бы делать он, не окажись подле поползня?
II
Зимний лес, если войти в него без предвзятости и предубежденья, глядится чуть ли не Летним садом. Тем, что в Петербурге. И хотя в нём не
отыщется бюста поэта, за право считаться родиной которого боролись семь городов, незрячий, ослеплённый снегом, сотворённый из него ветром, ожидает внимания к себе на одной из оленьих троп. Снежный Гомер куда нежнее любой из мраморных своих копий. Поверхность его негладка, и от того глядится куда как более живой, неутаённой правдой. Заложник[69 - толкование имени Гомера] великих знаний, как печалей, он трогателен, понятен, досягаем, хрупок и от того ж, раним. Всё, как в судьбе[70 - по преданию, Гомер, расстроенный проигрышем в поэтическом состязании, споткнулся о камень, упал и скончался].
А чуть выше – сражённый, но не сломленный, деревянный идол тянет сучья рук к небу. То не бранная скульптура мнимого божества, не рукотворный болван, но скромное, приличное, в ряду других изваяние. В нём угадываются черты многого, многих, и манит он к себе взгляд, а по добру или поздорову, – то, как каждый о себе возомнит.
III
Выжженный семенем клёна, видится на снежной доске силуэт воробья. В осевшей под сугробом поленнице мнится спешащий к Новогодней ночи дед…
Сосуд дня, отстоявшись к закату, прозрачен и бел на просвет. На дно горизонта пали его тревоги, а вздохи и мечты, высказанное вслух, да взгляды вослед молча, – парят, сбившись в облако. Что с ними будет, и куда им идти теперь?
Пусть
Воспоминания, как кегли, пока не трогаешь, стоят себе тихонечко рядами, не шелохнутся, но, стоит лишь коснуться их, как сыплются под ноги, мешаясь идти, пока хорошенько не подумаешь о них. А там уж, цепляют они друг друга, и не разберёшь уже – что из-за чего произошло и почему, да кто за кем уходил. Хотя, – вот это вот самое, – кто за кем, помнишь точно.
Только отчего… по какой причине они сообщали об том заране? Зачем!? Из-за чего выбирали именно меня, чтобы сообщить ту страшную весть?
Бабушка никогда не слишком-то откровенничала со мной. Часто кормила исподтишка, иногда делилась частью своей крохотной пенсии, показывала, как шить, мастерить игрушки из бумаги, выращивать и рисовать цветы, чтить всё, что живо, и Новый Год научила любить так, как это умела только она, – когда один лишь взгляд на новогоднюю ёлку наполняет тебя чистой хрустальной радостью, что льётся вовнутрь, но всё никак не может переполнить. Будто бы ты сам – и есть весь мир, с его луной и звёздами, с солнцем, морем, соснами до небес, щенками и блохастыми котятами, что пьют молоко рядом с бабушкиным креслом, у горячей батареи, закутанной в старое пальто, чтобы малыши не обожглись. И всем этим богатством бабушка делилась как-то немногословно, больше показывала, чем рассказывала, да и подправляла, если я ошибался в чём, также – молча…