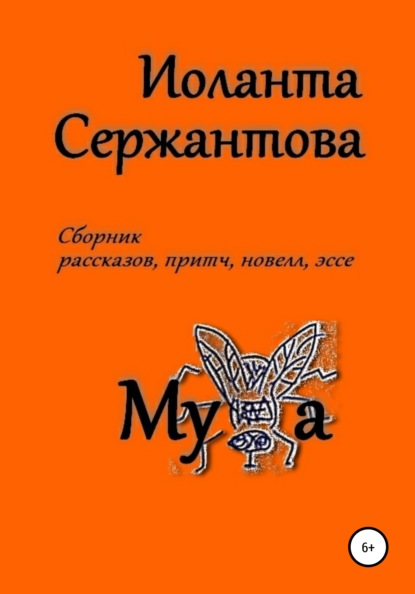По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В нашей коммунальной квартире никогда не было возможности посидеть в одиночестве, подумать. Постоянно кто-то шумел или шуршал рубанком, иные скандалили, другие хохотали. Десять дверей, и за каждой – своя отдельная семья, бывало, что из семи-восьми человек, а в нашей было всего лишь четверо: родители, младшая сестрёнка и я. Когда мать укладывала Наташку спать, она выгоняла нас из комнаты. Отец сажал меня на закорки, и принимался бегать по коридору так, что свистело в ушах. На улице такого же свиста почему-то никогда не выходило.
Через стенку от нас жила тётя Розочка. У неё первой появился телевизионный приёмник «Москвич Т-1», и она приглашала всех детей нашей квартиры «на телевизор». Каждый приходил со своим стульчиком, и сидел, чинно подсунув под себя руки, чтобы ненароком не погрузить палец в ноздрю. Тётя Роза была очень брезгливой, и каждого, кого она заставала за сим занятием, непременно отправляла в ванную, мыть руки. А так как к раковине обыкновенно была очередь, то редко кто успевал вернуться до окончания детской передачи.
После того, как тётя Розочка съездила к родственникам в Израиль, она ходила ещё более степенно, чем делала это раньше, и, казалось, распространяла вокруг себя сияние и благость. Не таясь, она собирала документы на выезд в Землю Обетованную, и когда её спрашивал кто-нибудь, «как там?», она мечтательно улыбалась и с неизъяснимым наслаждением сообщала: «Это рай! Рай на земле!» При этих словах чудилось, что мёд из уст тёти Розы стекает прямо по небритым щиколоткам, в сырую, уже недостойную её шагов пыль.
Мы выезжали из квартиры последними. После того, как все вещи погрузили в автомобиль, я не пожелал садиться в кузов. Я даже отказался прокатиться в кабине, рядом с водителем и Наташкой. Мне хотелось доехать до новой квартиры одному, на автобусе, как взрослому.
Заплатив пятачок за билет, я прошёл на заднюю площадку, где, подпрыгивая в такт рессорам, раздумывал над тем, как мне теперь забыть домашний адрес, который некогда заставила вызубрить наизусть мать, чтобы не потеряться. В тот день была замечательная солнечная погода, но улица, моя улица! – дом с длинным коридором и десятью дверьми, предательски стекали на подбородок, словно бы за окном лил дождь. Про всему выходило, что я ещё не вырос, и не был готов к тому, чтобы совершенно забыть о нём.
Красный зверь
[40 - каждый зверь, доставляющий мех:медведь, лиса, олень]
Разгребать снег было не тяжело, но утомительно. Привычно отталкивая от себя пустой скребок, я подтягивал его уже заполненным частью сугроба, так что мне оставалось лишь приподнять и отбросить в ненужное до весны место. Поработав подобным неторопливым манером с час или полтора, мне захотелось размять застывшие члены и прогуляться.
Свежие драпировки, вышитые бисером мелко колотого льда, прикрыли изъяны осеннего пейзажа. Всё угловатое округлилось, всё бесформенное приобрело очертания, – бесконечные белые холсты годились на что угодно, и так же беспредельно радовали собой. Сухие снежинки, обжигаясь о горячие щёки, летели кубарем за воротник, где рыдали тайно, измочив шею, но это было даже приятно. Сделав несколько шагов в сторону леса, я заметил оленя. Увидев меня, он не бежал, единственно, укрылся за углом широкого ствола дуба. Уместиться там весь олень, конечно бы, не смог, он словно втянул голову в плечи могучего дерева, и понемногу выглядывал оттуда, стараясь разгадать мои планы. Не желая причинить ему неудобство, принуждая искать новое место для ночлега, я шумно повернул к дому, и услышал благодарный громкий вздох в ответ.
Мы были знакомы не один год, но старались реже смущать друг друга прямыми, лоб в лоб, столкновениями. Несмотря на свою очевидную стать, ладное телосложение и славный, покладистый характер, олень, как очевидно, был подчёркнуто и непоправимо одинок. Зимой он предпочитал бродить в гуще ближайшего валежника[41 - упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие], а по всю прочую пору взбивал перину земли стройными ногами где-то поблизости. Время от времени он показывался на глаза, чтобы у меня не было причин опасаться за его благополучие, но прошлым летом исчез с глаз долой на целый месяц.
Я умеренно тревожился, в тайне уповая на то, что мой приятель решил-таки, наконец, покончить со своим затворничеством, пока однажды, неким бесцветным ранним утром, не услышал выстрел. И без того взволнованный длительным отсутствием оленя, предположив худшее, но отгоняя дурные мысли прочь, я решил пройтись по окрестностям, в надежде отыскать, всё же, добрую весточку от моего рогатого товарища. Как свидетельство того, что он только что был тут, мне с лихвой хватило бы примятой его следами травы или тёплого пара от свежего яйцеобразного помёта. Но, я ещё не отошёл от своей избушки и на версту[42 - 1,067 км], как олень, хрипло охнув, прыжком преградил мне дорогу. От неожиданности вскрикнул и я, вспугнув стаю воробьёв, что растянула неглубокие карманы ветвей берёзы.
Направив взор в ту сторону, откуда появился олень, я заметил человека. Дабы подчеркнуть своё намерение, он красноречиво потряс ружьём над головой, призывая меня отойти. Я отрицательно покачал головой, и, обойдя оленя, загородил его собой. Так мы и шли до самой истопки[43 - изба]: охотник, олень, воробьи, что вприпрыжку увязалось за нами, и я. Ловец[44 - охотник], который не решился стрелять вблизи жилья, наконец отстал, а олень, почти не сбившись с шага, сам зашёл во двор. Из деликатности, по-прежнему не глядя на него, я открыл дверь сарая, разгрёб сено, и, не навязывая своё общество, ушёл в избу. Олень гостил у меня до следующего дня, и исчез, едва следы охотника слегка замыло простывшей к утру росой.
После того случая, олень неизменно сопровождал меня во время прогулок. Он недалеко и недолго парил над землёй впереди, словно указывая верный путь, а потом останавливался и поджидал, обернув ко мне мощную шею, доставляя[45 - предоставлять] возможность сократить расстояние между нами, и заодно полюбоваться собой. Мы оба делали это, – скрадывая различия, выставляли напоказ то, что сближало нас, – любовь к лесу, не как к пристанищу, но к миру, наполненному жизнью, а не местом, в котором добывают шкуры для пальто.
Победа
– Хватит! Поздно уже! Пора домой! Простудишься!
– Ну, мамочка, ну, пожалуйста, я только ещё один разочек! Последний-препоследний!
Кованные санки тяжелы, и, стоит чуть остановиться, больно бьют о щиколотку, но ты тянешь их в горку, так как снова хочешь ощутить звёздный ветер навстречу, что дразнит и трогает лицо колючими ладонями. Полозья цепляются за вмёрзший в землю камешек, и ты летишь кубарем, сбивая лыжников. Они тоже падают, кружа за тобой к подножию горы, и лежат там в сугробе, шмыгая красными носами, поджидая, пока поверх навалится куча-мала. И ты хохочешь, звонко и счастливо, и все смеются вместе с тобой, растирая горячий снег по холодным щекам.
То – было. То было детство. И почему никто не сказал тогда, что оно, словно ветрянка, пройдёт, не оставив следа. Разве что пару незаметных ямочек, в известном одному тебе месте, что по сию пору дают знать о себе.
Старшая сестра, брат и я ведём себя нынче смирно, не дерёмся из-за красок, не шалим. Палец брата, который я прокусил на днях от того, что мы с ним не поделили кусок пластилина нужного тёмно-зелёного цвета, уже немного зажил. Сегодня четверг и дед поехал на правый берег, в город, чтобы купить баллончики для сифона. В оплётке блестящей серебристой проволоки, он вызывает такие же чувства, как день рождения и новый год вместе взятые.
Бабушка стряпает большой обед на тесной, почти игрушечной кухне, а мы сидим, чинно поджидаем деда, заплетая в косички бахрому чёрной, вышитой золотом скатерти, и даже не клянчим у бабушки пожевать сырого теста. Заслышав возню ключом в замке входной двери, мы, каждый на своём стуле, принимаемся ёрзать от нетерпения, но хорошо знаем, что деду показывать этого нельзя никак. Увидит – придётся ждать дольше. Дед степенно выгружает покупки, среди них – коробка баллончиков с углекислым газом. Бабушка убирает со стола чёрную скатерть, расстилает белую, расставляет приборы, водружает супницу, тарелки и тарелочки, соусницу, менажницу… О! Да что же так долго-то! Но ведь после ещё и сам обед!
– Дети! Мыть руки! Осторожно! Несу горячее! – Кричит из кухни бабушка.
Отобедав, дед дожидается, пока уберут со стола посуду, и после, наконец-то! – просит бабушку принести ТЕ бокалы. «Ну, ты знаешь», – Торжественно кивает он. Бабушка расставляет перед каждым из нас по пузатому полулитровому высокому стеклянному сосуду на низкой дутой ножке. Синие широкие полосы и широкая же лента позолоты по краю, – они больше похожи на вазоны, чем на чаши для питья, но… какая разница?!
Дед заполняет сифон водой, устанавливает капсюль углекислоты в гнездо и принимается вкручивать его. Мы слышим шипение и многозначительно молчим. Дождались! Дед окидывает нас взглядом и спрашивает: «Кому первому?» Честное слово, я уже не помню, кто получал свою порцию в первую очередь, но то, как лилась и шуршала вспененная вода, каким фейерверком, салютом звучала она в носу, в горле, в животе… Водопады радости накатывали один за одним, от этой остренькой, праздничной, газированной воды…
Кажется, словно это было вчера, – дед с улыбкой глядит в наши осоловелые, слезящиеся от пузырьков газа глаза, сипло смеётся и, будто фокусник, выуживает откуда-то из-за спины пластилин, каждому по коробке. Забыв о приличиях, мы накидываемся на него, как на добычу. В новой картонке всегда есть кусок нужного зелёного цвета, только из него можно лепить наши, советские танки, по другому – нечестно. Дед воевал в Великую Отечественную, был артиллеристом и дошёл до Берлина, но ни разу не попросил вылепить из пластилина пушку.
Ну, оно и верно, Победа – она ж одна на всех, как газировка из сифона, и выделяться тут совершенно не к чему.
Грибное
Мне не нравится запах закипающих в воде грибов. Он похож на сбивчивый, наспех и напоследок рассказ о том, что видели, да узнали за свою короткую жизнь они. Чрезмерно густой маслянистый аромат пристаёт к нёбу так прочно, что даже горечь кофе не сразу справляется с ним. Когда, бывает, наблюдаю грибников, что с ткаными авоськами, а то и с коробом за спиной маршируют по лесу, это огорчает не меньше. Вспарывая лесную подстилку длинными шестами, они ранят её, а, набив сумы изувеченными телами грибов, спешат по домам, где, не расслышав шёпота чернеющих губ[46 - губа – гриб], даже не прислушиваясь к нему, казнят.
Куда как приятнее заметить надкусанную косулей шляпку гриба, или неаккуратно, но тщательно подрытое кабанами целое их семейство.
К счастью, первая же метель гонит грибников прочь, оставляя добычу тем, кому она куда нужнее.
В снегу, подле не разграбленных ещё грибниц, отпечатываются тонкие изящные каблуки косуль, балетки[47 - балетные туфли] оленей, весомая платформа лося, разношенные туфли кабанов. Нерезкий дух снедных грибов[48 - съедобные грибы] мешается с пыльным запахом снега. Обернёшься чуть, и вот уже деревья, пока не видал никто, глядятся так, словно извалялись в сугробах, скоро поспешили встать, да не успели отряхнуться.
Дятел, простукивая простудную[49 - катарный] грудную клетку клёна, частит, ибо торопится. Он, хотя сам грибов не ест, в тайне ото всех возделывает их[50 - дятлы вносят споры разрушающих древесину грибов в дупла деревьев]. Стряхнув кленовые семена древесной стружкой на снег, дятел перелетает в сад, где, вальяжно изгибая полную шею, с небрежением поглядывает в сторону рдеющей от ярости рябины, и принимается очищать от снега виноградины. Из осторожности выглядывая через свободно вывязанный плетень лозы, неловко роняет ягодки, неспешно отыскивает их, путая с комьями снега, и вкушает, мечтательно запрокинув голову или прикрыв глаза. Как только дятел утоляет первый голод, то принимается забавлять себя тем, что отряхивает выпачканную в снежной муке гроздь, звенит ею, словно колокольцами, и делает это так искусно, что даже после, когда он совсем уже улетел, та долго, согласно кивает ему вслед, роняя белую пудру в невысокий ещё сугроб.
Щелчки кастаньет теплеющего под шагами снега выдают присутствие оленя. Зацепившись рукавом, он оставляет вырванный клок шубы висящим на не на месте устроенном крюке сучка. Видимо, так, с дырой проходит до самой весны, – на потеху соседям, но в укор многочисленному семейству, где все дамы, и все, как одна, белоручки.
Мне не нравится запах закипающих в воде грибов. Но их пряный, глубокий, живой лесной дух приятен, как всё, в чём есть душа. А коли кто-то её не замечает, это вовсе не означает, что той и взаправду нет.
Ситро
Я и дед. Мы идём не спеша. Я не скачу, дёргая его, по обыкновению, за руку, и вру, что намедни ушиб ногу, только чтобы дед не знал, что жалею его, и от того стараюсь ступать как можно реже. Сквозь порядком истёртую подошву сандалия, я чувствую круглые камешки красного гранита, закатанные в асфальт. Они скользкие, гладкие, блестящие, будто застывшие капли крови, и, выдаваясь чуть вперёд над дорогой, тоже заставляют немного сбавить ход.
Деда совсем недавно выписали из больницы, однажды утром он не смог встать с кровати, словно ни с того не с сего разучился ходить. Врачи не могли понять, что с ним, но я-то знаю, то – война не желает зарастать травой в окопах, а тянет свои немытые руки к тем, кому удалось вырваться из её объятий живым. Она тащит за края одежд назад, в узкие противотанковые рвы, в блиндажи, которые может в любой засыпать землёй, и в неглубокие, заполненные водой воронки от мин.
Пока мы идём, я успеваю подглядеть за вороной, которая, ухватив прутик, достаёт из муравейника личинку. Насекомые весьма недовольны этим, они долго трудились сообща, чтобы добыть червячка, и, уцепившись за дебелый, тупой хвост, упрямо тянут его на себя. Но куда им до вороны. Та, играючи, подхватывает личинку, и лишает мир ещё одной бабочки, или жука, – отсюда не разглядеть кто есть кто.
Мне кажется, что я отвлёкся на ворону совсем ненадолго, и чуть не позабыл про деда. Тот шумно дышит, очевидно нуждаясь в остановке. Смекнув это, я тут же принимаюсь ныть:
– Де-ед! А де-ед! Я уста-ал! Может, домой? Или вот, давай, где-нибудь посидим!
Впереди, неподалёку, совсем рядом с железнодорожными путями, пивной ларёк, возле которого, под навесом полосатых зонтиков, расставлены столы и лавки. Конечно, там, как обычно, длинная очередь из парней, мужчин и прочих, неопределённого вида, граждан, но нам всегда отпускают без очереди. Мы пьём ситро, так дед называет сироп, залитый газированной водой. Получив по паре ледяных стаканов, наполненных в меру сладкой, кипящей прохладой водой, мы устраиваемся за столиком. Первый стакан я выпиваю залпом, так, чтобы не упустить за зря ни единого пузырька, а второй смакую медленными глотками, дабы дать деду посидеть подольше и передохнуть.
Дед смотрит, как я грущу над скоро выдыхающейся водой и предлагает:
– Ещё стаканчик?
– Да! – Благодарно вскрикиваю я, и, смущённый скоропалительностью, добавляю, – Если можно…
– А не лопнешь? – Смеётся дед.
Я хлопаю себя по животу и мотаю головой:
– Не! Вон ещё сколько влезет!
В обратный путь нам обоим нелегко идти. Дед ещё не расходился, а я удерживаю в себе пузырьки, что отыскивают любую возможность вырваться на свободу, и прихватывают за компанию капли сладкой воды, которая при каждом неосторожном шаге оказывается у меня в носу.
Почти у самого дома мы ещё раз останавливаемся. Издали нам видно двухэтажную столовую с красивым номером «21» на вывеске. Там деду регулярно отпускают «грушевый сироп для внуков», и обязательно предупреждают о времени, когда «подвезут снаряды», так он, артиллерист, в шутку называет бутыли с грушевым ситро.
Время отбирает из человечьей крупы зёрна. Те, что получше И откладывая их в свою заветную миску, идёт дальше. Хорошо бы, чтобы мы тоже не забывали… хотя бы иногда поглядеть туда…
Совесть