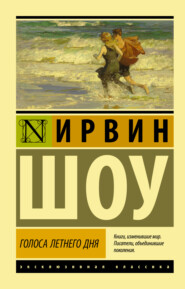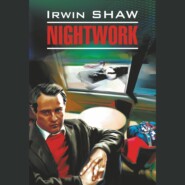По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Молодые львы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Люди говорят, – в голосе Арни зазвучали ностальгические нотки, – что я оставил свой талант в Голливуде, Томми. И вот что я тебе скажу: если уж талант придется оставить, то лучше всего оставлять его именно там. Но я им не верю, Томми. Я отработанный материал, и все меня избегают. Я не иду к врачу. Зачем? Я и так знаю диагноз. Врач только подтвердит, что жить мне осталось шесть месяцев. Мою последнюю пьесу запретили бы к постановке в штате с достаточно строгими законами, но причина не в Голливуде. Я слабый, интеллигентный человек, Томми, а наш век не приспособлен для слабых, интеллигентных людей. Вот тебе мой совет, Томми. Вырастай глупым. Глупым и сильным.
Арни тяжело поднялся с кровати, его силуэт, который Майкл видел в тусклом свете, падающем из окна, качался из стороны в сторону.
– Только не подумай, что я жалуюсь, Томми. – Голос Арни стал громким, а тон – сварливым. – Я старый пьяница, и все надо мной смеются. Я разочаровал всех, кто меня знал. Но я не жалуюсь. Если бы мне дали шанс прожить жизнь заново, я бы прожил ее точно так же. – Арни взмахнул руками, чашка и блюдце полетели на ковер и разбились, но он этого не заметил. – Только в одном, Томми, только в одном я бы поступил иначе. – Арни выдержал театральную паузу. – Я бы… – Он замолчал. – Нет, Томми, ты слишком молод.
Арни повернулся и, давя ботинками осколки блюдца, направился к двери. Томми снова лег. Арни прошествовал мимо Майкла и Луизы, распахнул дверь. Свет залил спальню, и Арни их увидел.
– Уайтэкр, – проворковал он. – Уайтэкр, старина, как насчет того, чтобы оказать мне маленькую услугу? Сходи на кухню, Уайтэкр, старина, возьми чашку и блюдце и принеси мне. Какой-то сукин сын разбил мои.
– Конечно. – Майкл встал, Луиза поднялась вслед за ним. – Томми, – он повернулся к мальчику, – а ты спи.
– Да, сэр, – сонно ответил Томми.
Майкл вздохнул, закрыл за собой дверь и отправился на поиски чашки и блюдца.
Остаток ночи навсегда впечатался в память Майкла. Правда, потом он не мог вспомнить, когда договорился встретиться с Луизой, то ли во вторник, то ли в среду, забыл, что нагадали Лауре: распадется их брак или нет. Но он запомнил, как Арни появился в другом конце комнаты, улыбающийся, с текущим изо рта на подбородок виски. Чуть склонив голову, словно у него болела шея, Арни достаточно твердой походкой пересек комнату и остановился рядом с Майклом, перед высоким французским окном. А потом внезапно открыл окно и уже шагнул вперед, но его пиджак зацепился за торшер. Арни освободил пиджак и вновь повернулся к распахнутому окну. Майкл смотрел на него, понимая, что должен рвануться к нему, схватить за плечи, оттащить от окна. Он уже двинулся к драматургу, но очень медленно, словно сопротивление воздуха возросло в тысячу раз. Майкл знал, что надо прибавить скорость, иначе ему не успеть – Арни шагнет из окна и полетит вниз, на асфальт.
Тут Майкл услышал быстрые шаги. Мужчина проскочил мимо него и схватил драматурга в охапку. Две фигуры на мгновение застыли на фоне ночных огней Нью-Йорка и облаков, подсвеченных красным неоном рекламы. Потом кто-то захлопнул окно, и опасность миновала. Только тут Майкл увидел, что Арни держит за плечи Парриш. Он стоял у стойки, но успел пробежать полкомнаты и спасти драматурга от неминуемой смерти.
Лаура бросилась в объятия Майкла, и из ее глаз хлынули слезы. Его злило, что в такой момент она выставляет напоказ свою беспомощность, показывает всем, как нуждается в опоре, но он радовался, что может злиться на нее, поскольку эта злость отвлекала от более неприятных мыслей. О том, что он потерпел неудачу, продемонстрировал свою полную несостоятельность. Но Майкл понимал, что эти мысли еще вернутся, никуда ему от них не уйти.
Скоро все разошлись, изображая веселье и притворяясь, что Арни выкинул отличную шутку. Арни уже спал на полу. Лечь в кровать он категорически отказался и скатывался с дивана всякий раз, когда его туда укладывали. Парриш, улыбающийся, счастливый, вновь обосновался в баре и спрашивал бармена, в каком профсоюзе тот состоит.
Майкл хотел поехать домой, но Лаура заявила, что она голодна, и каким-то образом они оказались в битком набитой машине, где все друг друга знали и сидели друг у друга на коленях, так что Майкл облегченно вздохнул, когда они выгрузились у большого, ослепительно освещенного ресторана.
Уселись они в зале с оранжевыми стенами, разрисованными индейцами, где неопытные официанты, вызванные на подмогу по случаю праздника, метались среди столиков, за которыми теснились те, кому хотелось продлить встречу Нового года. Майкл больше молчал, так как начинал заикаться, когда уставал. Зато он смотрел по сторонам, и рот его кривился в презрении к окружающему миру. Внезапно Майкл обнаружил, что за одним столом с ним сидят Луиза с мужем. И Кэтрин с тремя гарвардскими студентами. И Уэйд, как выяснил Майкл, сидел рядом с Лаурой и держал ее за руку. Пьяный туман по большей части рассеялся, но разболелась голова. Майкл заказал гамбургер и бутылку пива.
Это непристойно, думал он, непристойно. Экс-девочки, экс-мальчики, экс-всякие и разные. Во вторник он встречается с Луизой или в среду? А в какой день Уэйд встречается с Лаурой? Змеиное гнездо в зимней спячке, сказал Арни. Конечно, Арни – спившийся, несчастный человек, но ведь он сказал правду. Понятие чести забыто… Мартини, пиво, бренди, виски, и в алкоголе тонут порядочность, верность, мужество, решительность. Парриш – единственный, кто метнулся через всю комнату. Автоматически среагировал на опасность. Майкл стоял рядом, у самого окна, но успел подойти разве что на шаг. Не на шаг – на шажок. Так и остался стоять, слишком толстый, слишком много выпивший, слишком занятый собой, с женой, которая стала для него незнакомкой, изредка приезжающей на неделю из Голливуда, которая говорит только о себе и занимается бог знает чем с другими мужчинами в теплые калифорнийские вечера, напоенные ароматом апельсиновых деревьев, тогда как его самого все дальше и дальше уносит от юности, он выбирает легкие пути, зарабатывает легкие деньги, всем доволен, не способен на решительный шаг… Ему уже тридцать лет, и наступил 1938 год. Надо что-то делать, если только он не хочет, как Арни, шагнуть в окно.
Майкл поднялся, пробормотал: «Извините», – вылез из-за стола и направился в мужской туалет. Надо что-то делать, говорил он себе, надо что-то делать. Развестись с Лаурой, вернуться к здоровому образу жизни, какой он вел в двадцать лет, всего десять лет назад, когда честь была в чести, а встречая новый год, не надо было мучительно стыдиться года уходящего.
По лестнице из нескольких ступенек Майкл спустился к мужскому туалету. Начинать надо прямо сейчас. На десять минут подставить голову под ледяную струю, смыть пот, пьяный румянец. Мозги прочистятся, и он сможет взглянуть на новый год ясными глазами.
Майкл открыл дверь в туалет, подошел к ряду раковин, с отвращением взглянул на свое отражение в зеркале: помятое лицо, бегающие глаза, слабый, нерешительный рот. Он вспомнил, как выглядел в двадцать лет. Крепкий, сухощавый, энергичный, не признающий компромиссов… Он чувствовал, что то лицо никуда не делось, оно осталось, только спрятано под этой неприятной маской, которая смотрит на него из зеркала. Он найдет свое прежнее лицо, очистит его от того дурного, что накопилось за последние десять лет.
Майкл нагнулся над раковиной, плеснул ледяной водой в глаза и на щеки. Вытерся, кожу приятно пощипывало. Освежившись, он твердым шагом вышел из туалета, чтобы присоединиться к тем, кто сидел за большим столом в центре шумного зала.
Глава 3
На западной оконечности Америки, в приморском городе Санта-Моника, среди широких улиц и разлапистых пальм старый год уходил в плотной пелене серого тумана, клубящегося над маслянистой поверхностью воды, над волнами, которые бились о мокрый берег. Туман обволакивал ларьки для продажи хот-догов, закрытые на зиму, укутывал особняки кинозвезд и прибрежное шоссе, ведущее к Мексике и в штат Орегон.
Люди покинули улицы, оставив их туману, словно канун Нового года нес с собой страшные беды, которых местное население пыталось избежать, оставаясь в своих домах, пока опасность не минует их город. Тут и там сквозь мглу влажно поблескивали фонари, на некоторых улицах туман подсвечивался красным неоном. Цвет этот стал неотъемлемой частью ночной Америки. Мерцающие красные трубки рекламировали рестораны, кафе, кинотеатры, отели, закусочные, но в тихую, печальную ночь они предвещали трагедию, беду, словно человеческим существам давалась возможность заглянуть в будущее и там, сквозь серые покачивающиеся занавеси, они видели кровь и смерть.
Неоновая вывеска отеля «Вид на море», из окон которого никогда, даже в самые ясные дни, не представлялось возможным увидеть океан, добавляла ядовитой красноты в туман, повисший у окна Ноя. Свет этот проникал в номер, касался влажной штукатурки стен, литографии с изображением Йосемитских водопадов, висевшей над кроватью. Отблески красного падали на лежащую на высокой подушке голову спящего отца Ноя, на крупный нос с хищно изогнутыми ноздрями, глубоко запавшие глаза, высокий лоб, усы и вандейковскую бородку. Такая бородка в фильме была бы очень к лицу какому-нибудь полковнику из Кентукки, но казалась нелепой и совершенно неуместной здесь, в дешевом номере отеля, где умирал старый еврей.
Ной с удовольствием бы почитал, но он не решался зажечь свет, не хотелось будить отца. Он попытался заснуть, сидя на обитом жесткой материей стуле, но тяжелое дыхание отца, неровное, с хрипами, не позволяло сомкнуть глаз. Доктор сказал Ною, что Яков умирает. Это же говорила и та женщина, которую его отец отослал прочь в новогоднюю ночь, вдова… какая же у нее фамилия?.. ага, Мортон… но Ной им не поверил. По просьбе отца миссис Мортон отправила ему телеграмму в Чикаго с просьбой прибыть немедленно. Ной продал свое пальто, пишущую машинку и большой чемодан, чтобы купить билет на автобус. Он просидел всю дорогу и приехал в Санта-Монику сам не свой от усталости, чтобы присутствовать при великой сцене.
Яков расчесал волосы и бороду и восседал на кровати, словно Иов, спорящий с Богом. Он поцеловал миссис Мортон, которой уже перевалило за пятьдесят, и отослал ее, пророкотав хорошо поставленным актерским голосом: «Я хочу умереть на руках своего сына. Я хочу умереть среди евреев. Поэтому давай попрощаемся».
Так Ной впервые услышал, что миссис Мортон – не еврейка. Она плакала, и все происходящее напоминало Ною второй акт еврейской пьесы, какие ставят в Нью-Йорке на Второй авеню. Но Якова не тронули вдовьи слезы, и миссис Мортон ушла. Ее замужняя дочь увезла плачущую вдову в Сан-Франциско, к себе домой. Ной остался с отцом один в маленьком номере с единственной кроватью, в отеле «Вид на море», расположенном на узкой улочке в полумиле от зимнего океана.
Каждое утро на несколько минут заходил врач. Кроме него, Ной не видел ни единой души. В городе он никого не знал. Отец настаивал на том, чтобы сын не отходил от его кровати ни днем, ни ночью, и Ной спал на полу у окна на комковатом матрасе, который с неохотой дал ему управляющий отелем.
Глубоко вдохнув пропитанный запахами лекарств воздух, Ной прислушался к тяжелому, прерывистому дыханию отца. Он решил, что отец проснулся и специально так дышит, натужно, с превеликим трудом.
Не потому, что иначе дышать отец не может. Просто он полагал, что, если человек при смерти, каждый вздох должен служить тому доказательством. Ной пристально вгляделся в величественную, совсем как у библейского пророка, голову отца, возлежащую на темной подушке рядом с целой армией поблескивающих пузырьков с лекарствами. И вновь не смог подавить раздражение, поднимающееся при виде этих кустистых бровей, этой густой волнистой гривы волос, которые отец, по твердому убеждению Ноя, тайком обесцвечивал, добиваясь благородной седины, этой седой бородки на худых челюстях аскета. Ну почему, спрашивал себя Ной, почему этот человек изо всех сил старается выглядеть как иудейский царь, прибывший с визитом в Калифорнию? Все было бы по-другому, если бы и образ жизни соответствовал облику… Но со всеми женщинами, которые прошли через руки Якова за его долгую и бурную жизнь, со всеми банкротствами, деньгами, которые он занимал, но не возвращал, кредиторами, разбросанными по всему свету от Одессы до Гонолулу… Должно быть, кто-то решил сыграть с человечеством злую шутку, даровав отцу Ноя внешность Моисея, спускающегося с горы Синай с каменными скрижалями в руках.
– Поспеши, – Яков открыл глаза, – поспеши, о Боже, и прими меня к себе. Поспеши и помоги мне, о Господи.
Эта привычка раздражала Ноя ничуть не меньше. Хотя Яков был атеистом, он знал Библию наизусть, как на древнееврейском, так и на английском, и постоянно пересыпал свою речь длинными цитатами.
– Прими меня, о мой Бог, из руки злобной, из руки неправедного и жестокого человека. – Яков повернул голову к стене, его глаза закрылись.
Ной поднялся со стула, подошел к кровати, подтянул одеяло к шее отца. Яков никак не отреагировал. Ной постоял, глядя на отца, прислушиваясь к его дыханию, потом повернулся и отошел к окну. Открыв его, Ной втянул в себя влажный воздух, насыщенный соленым запахом океана. По улице, меж растущих вдоль мостовой пальм, на большой скорости пронесся автомобиль. Водитель нажал на клаксон, празднуя Новый год. И звук, и сам автомобиль растворились в тумане.
Хорошенькое местечко, помимо своей воли подумал Ной. Просто роскошное местечко, лучшего для празднования Нового года не придумать! От порыва холодного ветра по его телу пробежала дрожь, но окно он закрывать не стал. В Чикаго Ной работал делопроизводителем в фирме «Товары – почтой» и, откровенно говоря, порадовался возможности уехать в Калифорнию, пусть и для того, чтобы проводить отца в последний путь. В Калифорнии сейчас, должно быть, яркое солнце, теплый песок, деревья в садах, лениво сбрасывающие листву, красивые девушки… Ной мрачно усмехнулся, оглядев пустынную улицу.
Дождь лил всю неделю. И его отец растягивал сцену прощания до бесконечности. У Ноя осталось только семь долларов, и он выяснил, что кредиторы наложили арест на фотостудию отца. Даже при самом хорошем раскладе, если бы все ушло по самым высоким ценам, они надеялись получить тридцать центов на каждый одолженный Якову доллар. Ной прогулялся к этой маленькой, убогой студии на берегу океана, заглянул в нее сквозь пыльную стеклянную панель запертой двери. Его отец специализировался на высокохудожественных, мастерски отретушированных портретах молодых женщин. Местные красавицы, задрапированные в темный бархат, смотрели на Ноя сверкающими как звезды глазами. Этот бизнес его отец возрождал вновь и вновь, то в одном конце страны, то в другом. Этот бизнес доконал мать Ноя. Такие фотостудии появляются на летний сезон, несколько месяцев процветают, а потом исчезают бесследно, оставляя после себя бухгалтерские книги с многочисленными подчистками, шлейф долгов и кипы фотографий и рекламных объявлений, которые первым делом сжигает в переулке за домом следующий арендатор.
За свою жизнь Якову также довелось продавать участки на кладбище, противозачаточные средства, недвижимость, церковное вино, подержанную мебель, свадебные наряды. Однажды (каким образом – так и осталось загадкой) Яков стал судовым поставщиком в Балтиморе, штат Мэриленд. Ни одно из этих занятий прибыли не принесло. Но всегда – спасибо его раскатистому голосу, архаичной риторике, библейским цитатам, благообразному лицу и бьющей через край энергии – находились женщины, которые компенсировали разницу между тем, что Яков зарабатывал, и тем, что ему в действительности требовалось на жизнь. Детство и юность Ноя, который был единственным ребенком Якова, прошли в бесконечных переездах. Часто его оставляли одного, часто на долгое время отправляли к дальним родственникам или, того хуже, в третьесортные военные школы.
– Они сжигают моего брата Израиля в небесной печи.
Ной вздохнул и закрыл окно. Яков лежал на спине, оцепенев, уставившись в потолок широко раскрытыми глазами. Ной зажег единственную лампочку, прикрытую абажуром из розовой бумаги. Бумага покрылась подпалинами и при зажженной лампочке добавляла свою ноту в букет запахов, которыми благоухала комната больного.
– Ты что-то хочешь, папа? – спросил Ной.
– Я вижу языки пламени, – вещал Яков. – Я чувствую запах горелой плоти. Я вижу кости моего брата, лопающиеся в огне. Я оставил его, и сегодня он умирает среди иноверцев.
Раздражение горячей волной захлестнуло Ноя. Яков не видел брата тридцать пять лет, он действительно оставил его в России поддерживать отца и мать, когда сам уезжал в Америку. Из всего слышанного Ноем выходило, что Яков презирал брата и они расстались врагами. Но два года назад Якова нашло письмо брата, отправленное из Гамбурга, куда Израиль перебрался в 1919 году. Письмо, полное отчаяния и мольбы. Ной знал, что Яков сделал все что мог: писал бесчисленные прошения в Иммиграционную службу, поехал в Вашингтон и там обивал порог Государственного департамента.
Ной представлял себе этого бородатого пророка, то ли раввина, то ли шулера, среди сладкоголосых молодых чиновников с дипломами Принстона и Гарварда, перекладывающих бумажки и пренебрежительно взирающих на просителей из-за полированных столов. Но усилия Якова не дали результата, и единственный отчаянный крик о помощи сменился зловещим молчанием властей Германии. Яков вернулся в Санта-Монику, к солнечным пляжам, фотостудии и пухлой овдовевшей миссис Мортон и более не упоминал о брате. Но сегодня, когда за окном сгустился туман, подсвеченный красным неоном вывески отеля, на пороге Нового года, в последние несколько часов жизни (если верить врачу) покинутый брат, не сумевший выбраться из стоящей на пороге войны Европы, вновь возник в помутившемся от болезни сознании Якова.
– Плоть, – рокотал Яков, лежа на смертном одре, – плоть от плоти моей, кость от кости моей, тебя наказывают за грехи тела моего и грехи души моей.
О Боже, думал Ной, глядя сверху вниз на отца, ну почему он не может говорить как обычный человек? Он вещает, словно пастырь на холмах Иудеи, надиктовывающий свои видения секретарю.
– Не улыбайся. – Яков прострелил сына взглядом, его глубоко запавшие глаза ярко сверкнули. – Не улыбайся, сын мой, – брат мой горит и за тебя.
– Я не улыбаюсь, папа. – Ной коснулся ладонью отцовского лба. Кожа была горячей, сухой, шершавой. Ной едва не отдернул руку, такие она вызывала неприятные ощущения.
Но Яков продолжил словесное бичевание:
– Ты стоишь передо мной в дешевой американской одежде, и ты думаешь: «Какое он имеет ко мне отношение? Для меня он незнакомец. Я никогда его не видел, и если он умрет в печах Европы, что в этом особенного, люди умирают каждую минуту, везде и всюду». Насчет незнакомца ты не прав. Он еврей, и весь мир охотится за ним, и ты еврей, и весь мир охотится за тобой.
Обессилев, Яков закрыл глаза, и Ной подумал, что слова отца тронули бы его, говори тот простым, обычным языком. В конце концов, это так трогательно и трагично: отец, умирая, мучается мыслями о брате, которого, возможно, убивают в пяти тысячах миль от него. Человек, готовый предстать перед Господом, знающий наверняка, что отмеренный ему на Земле срок подходит к концу, скорбит о судьбе своего народа, разбросанного по всей планете. И хотя Ной не чувствовал, что происходящее в Европе самым непосредственным образом касается его самого, логика подсказывала, что слова Якова не лишены здравого смысла. Но долгие годы отцовской риторики, его страсть к театральным жестам привели к тому, что монологи Якова не вызывали у сына никаких эмоций. Вот и теперь он смотрел на отца, вслушивался в его тяжелое дыхание и думал: «Святой Боже, старик будет вещать до последнего вздоха».
– Когда я оставил его, – заговорил Яков, не открывая глаз, – когда я покинул Одессу в 1903 году, Израиль дал мне восемнадцать рублей и сказал: «Толку от тебя никакого. Прислушайся к моему совету: используй женщин. Не может Америка так отличаться от остального мира. Женщины там такие же идиотки. Они будут содержать тебя». Мы не пожали друг другу руки, и я отбыл. Он должен был пожать мне руку независимо от наших взаимоотношений, не так ли, Ной? – Внезапно голос отца изменился, стал тихим, смиренным, сценические интонации исчезли. – Ной…