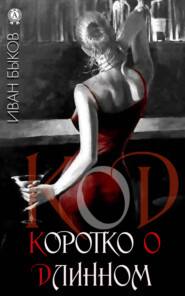По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бюро Вечных Услуг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Должности были отнюдь не синекурные – тут важны были нюх, беспринципность и профессионализм. Не профессионализм в той области знаний, которая была актуальной в вузе, а профессионализм лавирования без зонтика между капельками дождя.
Потому студенты входили в стены alma mater с гордо поднятой головой, а покидали те же стены с головами еще более поднятыми, потому как в них было пусто в отсутствии специальных знаний, да еще они были наполнены легчайшим гелием всевозможных установок и паттернов. Ложных, абсурдных, нелепых, но соответствующих господствующей доктрине, а потому воспринимаемых не иначе как аксиомы. Любой такой студент мог презрительно и безапелляционно выдавать заготовленные штампы и разговор специалиста «той» эпохи, пытавшегося опереть причины на следствия, со специалистом молодым, апеллирующим исключительно к фактам, как правило, напоминал сценку из рассказа Василия Шукшина «Срезал!».
У Нестора было несколько знакомых «серебряных щитов» из старых когорт профессуры, да и отец его Иван Несторович, был человеком глубоким и панорамным. Со стороны общение этих людей с представителями современной формации, заглянцованными не только передовыми образовательными технологиями, но и умелыми СМИ, напоминало подъем гигантских кальмаров с бездонных глубин в попытке найти некий солнечный свет в верхних слоях социального океана, но находящих только стада суетливой, но безоговорочно уверенной в себе сельди. Сельди, плывущей в неводы тральщиков.
Зато каждый новый экономист знал, как работает рынок, и почему он так работает. Каждый новый юрист знал, что правового поля нет, а есть связи. Каждый новый историк держал в памяти сотни дат, событий, названий партий и общественных движений. Только вот не было смысла связывать все эти многочисленные факты ниточками более или менее очевидных корреляций.
А вот кафедра исторической грамматики и компаративистики выглядела обшарпано, как подъезд в неблагополучном районе. Не жаловали историческую грамматику. И компаративистику тоже не жаловали. Вернее, сравнительную грамматику торжественно, как новым званием, нарекли иноземным термином, на чем чествование и было закончено.
Нет, была в этом же вузе и кафедра компаративистики английского языка – она сияла щедрым глянцем, была пафосна и пестрела красным, синим и белым – цвета складывались в великолепные звезды, полосы, квадраты и кресты гордых флагов. Другое отношение было к языку колониальному в одной из колоний.
А вот здесь, у крашенных масляной зеленой краской стен со стыдливыми портретами Даниила Заточника да Нестора Летописца (Нестор Иванович грустно улыбнулся) в скромных рамках, с большим плакатом от руки (!) расчерченного расписания, с проемом в одностворчатую дверь из ольховой фанеры, не было никакого пафоса.
Большая некогда страна распалась на одну побольше и несколько поменьше. И вот те, что поменьше, как-то сразу были взяты в оборот, обласканы, рукопожаты и елеопомазаны Великими Иноязычными Державами (ВИД). И потому нынче в тех, что поменьше, ту, что побольше, не жаловали. Ну, как-то неудобно было перед этими самыми ВИДами. Вроде, как замуж снова выйти, а бывшего из контактов не удалить – заподозрят же. Пусть не скажут (а скорее всего – и скажут!), но думать будут и догадываться – это уж точно. И поставят, так сказать, на ВИД.
Вот только язык был по-прежнему общий. Нет, конечно, языки тоже были своими, родными и близкими, но этот, общий, как-то не забывался. Вроде, все двери были открыты колониальному, все врата подставлены, а этот, общий, все лез, зараза, и лез в уши – на улицах, с экранов, из мировой сети, из уст еще не забывших его родителей.
Его бы, как пел незабвенный Андрей Миронов словами Леонида Дербенева, «взять и отменить» (и пробовали, и не раз), но тогда – вот ведь какая штука получается – выйдет из него мученик с терновым венцом. А молодежь-то, она такая – если что ей запретить, так сразу же вберет себе в тренд хлебать это запретное большими деревянными ложками. И будет шушукаться по подвалам на этом самом, запретном, и петь по-швондеровски: «Суровые годы уходят…». А разве такого результата мы добиваемся, товарищи? Нет, нет и еще раз – нет!
Поэтому нужно было просто подождать. Как можно реже белить зеленой масляной краской стены, поменьше выделять средств на научные изыскания (да и вообще, какие могут быть изыскания?), если и брать кого в аспиранты, то как-нибудь хитро обзывать специальности и темы работ, что-то вроде «прикладной лингвистики», или «математической», или той же «компаративистики». Без конкретики – лингвистика себе и в колонии лингвистика. И тогда даже на столах преподавателей будет начертано, что холодно и зябко маленькой макаке. Или большому мамонту – не важно.
Мамонты, конечно, не вымрут, но станут видом дивным и забавным, перекочуют с обетованных территорий куда-нибудь в мамонтовые гетто. Как там говорил Обручев? «Земля Санникова»? Вот туда. А люди будут приходить на них посмотреть, над длинной шерстью посмеяться, бивни обломанные потрогать и сделать восхитительные портфолио на их фоне при помощи селфи-палочек. Или как они сейчас называются? При помощи – о! – моноподов.
Кольцо Соломона дважды повторило одну и ту же истину: «Все пройдет», «И это пройдет». И повторило оно эту истину (или две истины?) на языке арамейском, древнем, как и сам народ, которым правил мудрый царь. Последние носители этого языка умерли от старости только в начале двадцать первого века. Все пройдет. Нужно только немного подождать. Любая сила либо множится, либо рассеивается. А время – оно такое: все расставит на свои места.
41
Пожилая методист кафедры исторической грамматики была скупа на слова, но щедра на испепеляющие взгляды. «Индрин? Есть. Смотрите расписание. Не знаю. Не отчитывается. В аудитории. Ищите на этаже».
Даже серый костюм и сиреневая рубашка, специально надетые по такому случаю, не скрыли в Несторе работника среднего образования, причем не самого высокого эшелона.
Как-то, когда речь зашла об отношении Нины к социальному статусу Нестора, Наставник заметил: «Понимаешь, Нестор, социальная иерархия – это колода карт, от двойки до туза. Ты сейчас кто? Завуч. Завуч – это еще двойка. А директор школы – уже тройка. Двойка, между прочим, бьет туза. А тройка никого не бьет. Кроме двойки. А ее бьют все. Оно тебе надо? Правда, жене своей ты этого не объяснишь».
Видимо, методист кафедры, которая тоже, по сути, двойка, считала себя двойкой козырной. Поэтому с Нестором не церемонилась, информацией делиться не желала, да и вообще, считала визит сторонних людей на кафедру – делом вздорным и раздражающим. Кто ты? Сотрудник кафедры (тут тоже, кстати, был специфический ранжир)? Нет. Представитель министерства или спонсоров? Точно нет – на эту кафедру такие не заходят. Староста группы с зачетками и кассой по тарифу? Нет. Ну, что же ты тогда?
«Шурануть бы тебя на подсознательном уровне, – подумал Нестор. – Призвать бы вечного спутника бога Диониса – шалуна Пана, который порезвился бы всласть, наслав безотчетный панический ужас и желание бежать стремглав в неведомом направлении». Но это не Наговы методы, хотя такой способностью обладает любой Наг от Второго дна и ниже.
«Сам справлюсь», – решил Нестор. И отправился «искать на этаже». Была уже половина одиннадцатого. Закончилась первая пара, а по расписанию второй пары у Индрина не было. Так что он мог либо вернуться на кафедру для каких-то подотчетных дел, либо отправится прямиком по делам своим, а значит, лежащим в противоположном направлении.
Либо постарались оперативники Раджаса, либо мягко навела озарение напарница из Саттва, но Нестору повезло. Глеба Сигурдовича он встретил в коридоре. Доцент одиноко и задумчиво брел в сторону выхода из университета. Доцент был дрищом.
Нестор ни в коем случае не хотел обидеть Глеба Сигурдовича ни крамольной мыслью, ни – уж тем более – грубым словом. Но это самое слово первым приходило на ум при взгляде на доцента кафедры компаративистики. Нет, он не был худ или нескладен: вполне нормальная комплекция, обычный лептосоматик, каких большинство. Может, он даже ходил в зал иногда. Может, даже ездил на велосипеде, и один из припаркованных у входа железных пони был именно его. Но делал он это все (если делал) не в полете творческой свободы, не в порыве увлечения любимым делом, а лишь для того, чтобы сублимировать великое количество комплексов, живущих в его душе и теле. Может, даже наукой этой, непостижимой для Нестора, Глеб Сигурдович занимался именно с этой целью.
Перед визитом в университет Нестор ознакомился с некоторыми работами своей «цели». Поскольку, как догадывался Нестор, ему предстояло «работать совестью» во сне или даже во снах товарища Индрина, то предварительное прощупывание реципиента было не просто желательной, но даже обязательной процедурой. В эпоху вседоступности информации любой доцент оставляет за собой солидный шлейф из публикаций, выступлений, тезисов к конференциям и так далее. Нестор провел за этим занятием весь вчерашний вечер.
Копьютер находился в библиотечной комнате на втором этаже их домика (вот, теперь Нестор сам ловил себя на мысли, что называет этот дом своим). Дверь в библиотеку Нестор не закрывал. Взял сто коньяку для прочистки мозга после литров пива, шоколадку для подпитки того же органа и ушел в работы Глеба Сигурдовича.
Нина, которая все еще делала вид, что злится, сначала сидела на кухне у телевизора, потом же затеяла глажку в «женской» спальне. Поскольку вещи находились в гардеробе спальни «мужской», то Нина ходила перед дверью библиотеки взад-вперед, «туда-сюда», как говорил герой «Иронии судьбы». Сначала молча, но потом не выдержала.
– Чем занимаешься? – спросила грозно, как «mit dem Ausweis!».
– Делами, – не хотелось вдаваться в объяснения, Нестор только начал вникать в текст очередной работы.
– «Змеиными»? – прошипела Нина, именно так, в кавычках.
Нестор молча кивнул, и Нина покинула его. И глажка перешла в другую фазу, без «туда-сюда».
Из содержания работ Глеба Сигурдовича Нестор не понял почти ничего. Пришлось «смотреть душой», прощупывать какие-то общие моменты, которые можно было сопоставить с родной для Нестора областью знаний – с историей.
Нестор выяснил, что доцента Индрина с давних времен, еще с первых проб пера, с периода вольного соискательства кандидатской степени, интересовали несколько, на первый взгляд, разнородных вещей, которые все-таки можно было склеить в некую систему.
Индрин всегда интересовался пространством. Его работы, в основном, были по лингвокультурологии. Речь шла о формировании культурных ориентиров посредством языка и, наоборот, – о влиянии уже сформировавшихся культурных массивов на язык. Индрин говорил о сигнификации, то есть о привязке формировавшихся в представлении образов к конкретным словам, но при этом всегда подразумевался ландшафт, пространство. Работы по ономастике, так или иначе, говорили о топонимах – наименованиях ландшафтных, географических объектов. Много внимания уделялось ассимилятивным процессам. Другими словами, речь шла о том, как возникали названия объектов окружающей действительности, как они становились мотивирующими основами для образования (деривации – этот термин очень понравился Нестору) других слов и как, таким образом, возникал язык, который, в свою очередь, становился основой развивающейся культуры. Как происходило взаимопроникновение и дальнейшая ассимиляция языков, а следовательно, культур.
В целом, Индрин создавал впечатление мужика мудрого, преданного своей теме и увлеченного своей работой. Нестор с детства (пример отца) уважал людей, любящих труд, относящихся к своему труду с искрой вдохновения, в чем бы эта работа ни заключалась.
Тему докторской диссертации, над которой Глеб Сигурдович трудился в данный момент, Нестору узнать не удалось – такие вещи в интернете если и анонсировались, то в таких глубинах, до которых посредственный пользовательский гений Нестора пока дотянуться не мог. Собственно, задача заключалась в ином: познакомиться, выпить пива в «Варяке» или вина в «Доме Диониса». Да хоть кофе в «Шоколаднице» – главное, создать контакт для дальнейшего взаимодействия.
42
– Прошу прощения, – несколько смущенно окликнул Нестор доцента Индрина.
Тот как-то дернулся от оклика, обернулся резковато, как будто в него плюнули жеваной бумагой из трубочки («Неужели такое возможно в университете?» – мелькнуло у Нестора). Ну, конечно же, очки. Как без них? Диоптрика не мощная, оправа без претензий, фасон дедовский. И вообще, была в облике доцента Индрина какая-то неопрятность, неухоженность, что отчетливо указывало на отсутствие женской руки. Был и пиджак вкось, и примятая рубаха, и пыльные в местах брюки не в тон. Жеваные, как бумага из трубочки, некремленые туфли. Портфель черный, из кожзаменителя.
«Справедливость говорила, что он без пяти минут Дракон», – вспомнил Нестор и оживил в себе почтительное отношение. Нет, Нестор и так испытывал уважение к объему знаний и системному подходу доцента Индрина. Судя по его работам, он умел находить взаимосвязи там, где другие их упускали из виду. Хотя какие другие? Разве Нестору доводилось читать других исследователей исторической грамматики? Но работы были глубоки и даже занятны этой глубиной для неискушенного читателя. Нестор помнил, как отец говорил ему когда-то, еще в школьную пору, читая сыновний реферат по истории: «Лучше прослыть идиотом оттого, что видишь причинно-следственные связи там, где их никто не видит, чем оттого, что не видишь причинно-следственные связи там, где их видят все». Так вот, доцент Индрин видел такие связи, и, что вполне вероятно, мог слыть в профессиональных кругах пусть не идиотом, но человеком со странностями в научных взглядах. «Непросто ему будет защищать докторскую», – подумал Нестор.
Так что Нестор оживил в себе уважение к доценту Индрину не как к специалисту, а как к человеку, и человеку незаурядному. Кто знает, может, вскоре парить ему над Взвесью и смотреть на того же Нестора, как на молекулу во вселенской круговерти.
У Нестора было две легенды для знакомства. Во-первых, он мог представиться грантодателем. Членом какой-нибудь комиссии какого-нибудь фонда. Наука – штука загадочная, никогда не знаешь, где и куда выстрелит. У Нестора был один знакомый журналист, который писал статьи – тогда еще не было представлений о блогах и блогерах – по современной литературе. Так себе статьи в так себе газеты и так себе журналы. Но что-то, видимо, привлекло представителей господствующей доктрины, и молодого журналиста сочли перспективным и забрали в Москву.
Это Нестор сейчас понимал истинные причины такого перевода, тогда он думал, что в парне просто обнаружили талант. Таланты – это хорошо, но они будут оставаться невинным увлечением, хобби, до тех пор, пока не попадут в поле зрения и не совпадут с вектором господствующей доктрины. Искусство и наука всегда были мощным инструментом социальной инженерии.
Когда-то в юности Нестор прочитал небольшую повесть ныне забытого фантаста Михаила Пухова. «Станет светлее» называлась эта повесть. И была там высказана одна мысль, осознать которую Нестору удалось значительно позже, может быть, уже после Наговой инициации. «Вошедший в Круг раздвигает его пределы, но не выходит из них», – так звучала эта мысль. Иначе говоря, если система всеобъемлюща, то и сфера ее интересов также всеобъемлюща.
Один из героев повести возмущенно спрашивает: «Вы думаете, вам удастся заставить меня поступать вразрез моим убеждениям?». На что ему резонно возражает другой герой: «Никто не собирается вас заставлять. Все гораздо проще. На каждом круге два направления. Вы всегда будете делать только свое, нужное вам. Но одновременно это будет полезно Кругу. Круг достаточно велик для такого пересечения интересов».
Круг достаточно велик. Сальвадор Дали, создавая картины, не думал о том, что он нужен, что его специально ввели в аристократические дома Старого света, потому что его сюрреализм полуфабрицировал, расслаблял, замешивал сознание масс для дальнейшего приготовления на гигантской сковороде. Кандинский, мучаясь над цветовыми гаммами своих абстрактных композиций, или Малевич, нагло выставляющий супрематистский «Черный квадрат» в красном углу, тоже просто бросали вызов, искали новые формы. Они не выходили за пределы Круга, но уже раздвигали их. Вряд ли поэты русского рока, чьи сердца «требовали перемен», думали, что работают на Круг, разваливая некую структуру, которая отработала свое и, с точки зрения господствующей доктрины, потеряла актуальность. Таланты втягиваются гигантской губкой и властной рукой выжимаются в бессильные разумы.
Доцент Индрин явно пока этой губкой втянут не был. А был он заштрихован грифелем быта и затерт ластиком рутины. Методист кафедры исторической грамматики ясно дала понять Нестору, что роль грантодателя никак ему не к лицу, но Индрин, наверняка, принял бы ее с искренней благодарностью и верой. Однако Нестор посчитал такой подход нечестным. Кир выделил некоторую сумму «для налаживания связей», но на грант эта сумма не тянула. Так – посидеть да поболтать где-нибудь. Правда, хорошо посидеть и долго поболтать.
И Нестор решил использовать легенду «во-вторых». Эта вторая легенда была основана на правде, а потому для использования была более комфортной – врать Нестор, как и любой Наг, не любил. Разве что чуть-чуть гипнотического воздействия – так, пробудить интерес, снять неловкость первого знакомства.
– Вы меня не знаете. Я работаю в школе, – Нестор почтительно склонил голову, как и положено работнику среднего образования перед работником образования высшего. – Веду языковедческий кружок, в рамках расширенной нагрузки. У детей много вопросов. На все я ответить не могу. На кафедре порекомендовали Вас. Понимаю Вашу занятость, но, может, Вы нашли бы время, нет-нет, не читать лекцию! Поговорить немного, просветить меня в некоторых темных местах. Школьный учитель, Вы же понимаете, не столько творец, сколько, так сказать, работник «у станка»…
Оказалось, что гипнотическое воздействие в данном случае излишне. Глеб Сигурдович, мог, хотел и даже посчитал себя должным. Все-таки преемственность ступеней образования, вертикаль от дошкольного учреждения до вуза, поиск детей заинтересованных и одаренных, «если упустить в школе, то что же нам потом с ними делать в вузе?» и так далее. Велосипед у Глеба Сигурдовича был, но на работу он на нем не ездил, а ездил он на нем по выходным вдоль моря.
Предложить «Варяк» для места проведения профессиональной беседы показалось Нестору жидковатым. А вот «Дом Диониса» был воспринят на ура. Через сорок минут – столько занимала дорога от университета к бордовому дому – пара интеллигентных мужчин уже вкушала гауду, горгонзолу, чеддер, камамбер и бри, запивая все это сырное великолепие красным бургундским «Божоле Вилляж», в основе которого мог лежать только виноград сорта гаме, и бургундским же белым «Шабли Гран Крю», сделанным из традиционного винограда сорта шардоне. Не самые дорогие вина и не самые изысканные сыры, но глубина беседы окутывала застолье роскошным флером. Происходило все это в дегустационном зале «Вакх», в том самом зале, который украшала уменьшенная копия «Вакха» Микеланджело, процесс появления на свет которой так красочно описал Ирвинг Стоун в романе «Муки и радости».
– Беда наших нынешних молодых людей в том, – вещал уже изрядно захмелевший Глеб Сигурдович, – что они все время пытаются изучать иные языки без основы родного. – Выяснилось, что пить доцент Индрин любил, но, в силу понятных обстоятельств, пил редко, а потому хмелел быстро. Сегодняшнее знакомство было для него авантюрным приключением, о котором он обязательно будет рассказывать потом в узких кругах своих собеседников, а может быть, даже студентам на лекциях с той же силой и энергией, с которой другие рассказывают о первом прыжке с парашютом или о первом погружении с аквалангом.