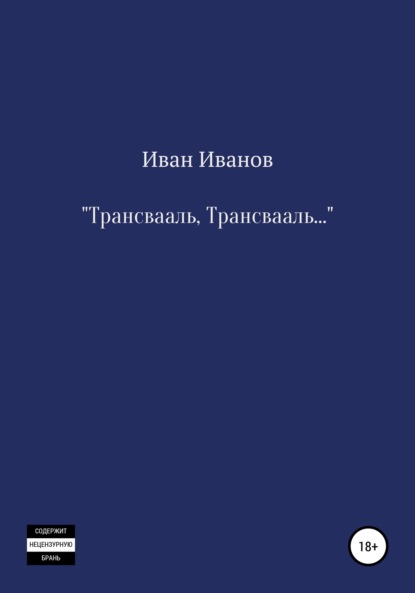По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К тому же и деревня встала горой за своего непревзойденного мастера берестяных дел. Лучше и краше его лаптей, ступней, заплечных кошелей, лукошек, туесков для хранения обеденного харча в поле или на сенокосе – никто не плел… Слыл он в деревне и как самый «культурный» муж! – без претензий на какую-либо образованность: вместо личной росписи, где надо, ставил «крестик». И поди ж ты, никто, даже поп местного прихода, так не жалел свою жену, как их разлюбезный овчар. Не обращая внимания на насмехания сельчан, носил зорями – до выгона скотины – воду на коромысле из колодца своей «барыне» Ефросинье. На такую по разумению новинских мужиков постыдность и поныне еще никто не снисходил в деревне.
Зато, когда он тихо отошел в мир иной, сразу все спохватились, что теперь им будет недоставать благородного, «культурного» овчара. Поэтому и похоронили его, как заслуженного аборигена, наравне со старейшей учительницей Ниной Ивановной Никитиной, оклеветанной незаслуженно во время раскулачивания мужа-лошадника, со всеми почестями, с музыкой, востребованной из Града Великого за пятьдесят немеренных верст. Этими хлопотами была оказана от благодарного селянского «обчества» как бы последняя ему пастушья гостевая «череда» с признательными, идущими от сердца, словами: «Пусть земля будет тебе пухом, незабвенный наш Иван Наумыч. Аминь».
Вот такой-то, всеми уважаемый человек, по призванию – овчар, прошедший в жизни огонь, воду и медные трубы, и коноводил до войны на мужских зимних посиделках в столярне у молодого Мастака-Гаврилы за наркома местного «НИДа». И поныне старожилы деревни помнят, с какой дипломатичной выходкой встревал он в споры-разговоры молодых, не исключая дебаты и мирового значения: «Покойничек, Петра Захарыч (или Кузьма Андреич), не даст соврать…» И пошел-поехал рассказывать были-небыли из своей служилой молодости. Про сопки Маньчжурские, где «в одна тыща девятьсот четвертого года ходил в «штыковую» на японский чудо-пулемет…»
А конюх Матвей Сидоркин на тех посиделках всякий раз не удержится напомнить своим однодеревенцам о первой империалистической «кровавой катавасии», настоянной на удушливых газах. О своем отбывании плена на поселении, на земле у хозяев, где за неоднократные побеги, чтобы пуститься «пехом» к снившимся по ночам лесистым берегам своей Бегучей Реки, его, беспортошного беглеца, добросовестно, с ритуальным – по науке – окачиванием холодной водой, нещадно, в поте лица, порол добротными ременными вожжами, больносердный к своим сытым, с развалистыми, по-бабьи, задами, гнедым лошадям, краснорожий хозяин-«австрияк».
– Такие выволочки на чужбине, маткин берег – батькин край, не забываются, нет! – отшучивался рассказчик, поеживаясь спиной.
И за вечер-то, бывало, новинские небритые аборигены в горячих, спорах, доходивших до грудков, – так и этак перекроят мир, деля его на страны, которые, как им того хотелось бы, были «за нас»: это – Красный Китай, где уже какой год шла гражданская война с Гоминьданом; Абиссиния и (как бы сейчас ни говорили, а тогда была, особенно, для новинских мальчишек) святая и героическая Испания. И на страны, которые были «против нас»: это – одноосная телега на трех колесах «Берлин-Рим-Токио».
Обычно такие споры-разговоры заканчивались трогательной песней о каких-то неведомых бурах, попавших в большую беду: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя! Ты вся горишь в огне…»
Эту песню-сказ однажды привез Ионкин дед по отцу, Мастак-старший (первый грамотей и книгочей в округе, да еще и местный стихотворец) из «Большой деревни» – Питера, куда в молодости ездил с новинской плотницкой артелью на летние заработки. И всякий раз пели ее со священным огнем в глазах, будто страна «Бурия», как называли тогда ЮАР, находилась где-то за Красноборскими синими лесами и нуждалась в срочной выручке новинских «санапалов» с дрекольем в руках.
И Ионке, тогдашнему дошколяру, всегда казалось, что эту песню он знал еще до своего рождения, а может, и родился прямо из нее:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне.
Под деревцом развесистым
Задумчив бур сидел.
– О чем горюешь, старина,
Чего задумчив ты?
– Горюю я по родине,
И жаль мне край родной.
Сынов всех десять у меня:
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Семь юных остальных.
А старший сын, старик седой,
Убит уж на войне;
Он без молитвы, без креста
Зарыт в чужой земле.
Мой младший сын – тринадцать лет,
Просился на войну.
Решил я твердо: нет и нет,
Малютку не возьму.
Но он, нахмурясь, отвечал:
«Отец, пойду и я!
Пускай я слаб, пускай я мал —
Верна рука моя…
Отец, не будешь ты краснеть
За мальчика в бою —
С тобой сумею умереть
За родину свою!..»
Я выслушал его мольбу,
Обнял, поцеловал.
Малютка в тот же день со мной
Пошел на вражий стан.
Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.[2 - Примечание. Во время англо-бурской войны 1890–1902 гг. симпатии русского народа были на стороне буров – народа, пострадавшего от нападения английских колонистов, что и обусловило появление этой песни.]
На тех мужских посиделках новинские мальчишки тоже были завсегдатаями. Они росли на них. Жались к отцовским коленям и клятвенно умоляли глазами: случись беда со страной – война, и мы сделали бы, мол, то же самое, как и далекий наш друг-«малютка» из песни…
И все-таки Испания Ионке была ближе. Хотя бы потому, что их «Чкалов», Николай Жуков. По возвращении из Испании он – Жуковского корня: толстогуб, смугл, да еще и до черноты пропеченный на ненашенском яром солнце – приехал на побывку к себе в деревню с тремя кубарями в голубых петлицах и орденом «Красного Знамени» на груди, чем немало издивив новинских кумушек:
– Вот тебе и – на-а!
– Корчевицкий санапал явился-не запылился! – припомнил Гаврила-Мастак своему боевому земляку его начальную летную карьеру, когда он служил по соседству на Корчевицком аэродроме.
Однажды во время учебных полетов, пролетая над своей деревнею на двукрылой «этажерке», он из озорства так снизился, что задел шасси за скворешню на коньке собственной избы. Да еще и коров в поле перепугал так, что те, сердешные, до того ошалело доносились по выгону с задранными хвостами, что и доиться перестали в то лето…
Узнав такую озорную биографию молодости местного «арапа», летчика-истребителя-орденоносца, ну как тут было безоглядно не втрескаться в него с первого взгляда приезжей молоденькой городской «училке» с потешными белесыми косичками вразлет?
И скорому жениху пришелся «пондраву» синеокий «полевой цветок» с припухлыми нецелованными губами… И уже через неделю фартовый гость, видно за все свои прегрешения молодости перед деревней, закатил такую разливанную веселую «сварьбу» (истый новинский абориген, как только ступит на свою, обетованную предками землю на берегах Бегучей Реки своего Детства, никогда не скажет свадьба, только: «сварьба… байня, брательник, сродник, наш однодеревенец…»), на которой он подарил своему дружку-приятелю детства и запевале деревни новую, ненашенскую песню. И тут же напел ему ее мотив. Песня, оказалось, и сложена была как бы для могучего голоса новинского Мастака-Гаврилы. Когда тот, слегка кашлянув в свой кулачище размером в пудовую гирю, вывел первые ее слова, считывая с помятого листка отрывного календаря, у многих по спинам разгоряченного застолья забегали цепкие холодные мураши, а в окнах нового клуба тоненько зазвенели стекла в рамах:
– Гренада, Гренада, Гренада моя!
И запевале дружно подхватила новинская «сварьба»:
– Горько, горько!
– Подсластить надоть!
После свершения – на ура! – «горько», старый одноногий гармонист, инвалид русско-японской войны в начале века, сделав отмашку бородой-лопатой в сторону молодых и разломив на колене свою голосистую чудо-тальянку, с форсом объявил:
– Дык, уважаемые, пиеса: «Барыня»!
Деревня Новины всегда славилась не только хваткими плотниками, голосистыми запевалами, но и знаменитыми гармонистами. Никанорыч же был гармонист из гармонистов, без которого не игралась ни одна уважающая себя «сварьба» в округе. За ним приезжали, несмотря на непогоду, из самых дальних лесных углов приречья.
Да, умели в довоенных Новинах от души работать, но и широко гульнуть. Так столяр по прозванию Мастак-младший, помимо присущих деревне с исстари престолов, справлял еще и День рождения своего единственного любимого сына Ионы, совпавший с поминальным днем его деда, знаменитого на все приречье, столяра Ионыча. Так один Мастак ушел из жизни, другой, через колено – продолжатель работящего древа – пришел в нее в один и тот же день и час. И этот, сугубо семейный праздник Мастаков уже давно стал как бы третьим престолом в Новинах – после Николы летнего и яблочного Спаса.
И как уже повелось, все были в этот день в сенокосных ситцевых обновах. Поэтому и праздновать новинцы собрались с «укоротом», долго не засиживаясь, помятуя, что завтра – сенокос!
И вот уже дело дошло до первых песен, когда перед крашеным узорным палисадом Мастака объявился на фыркающей, взмыленной лошади седовласый военкомовец с тремя кубарями в петлицах, зычно выкрикнув из седла:
– Мужики, шабаш веселью! И запомните этот черный день календаря: 22 – июня Сорок Первого! Уже с раннего утра на нас грядет Большая война, мужики…