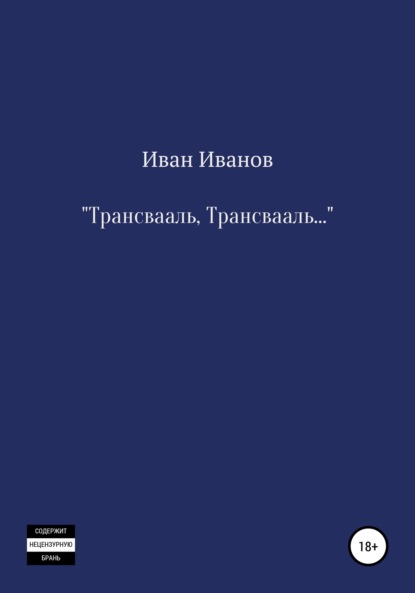По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«КРРА… УРРА… ВОТ ТЫ ГДЕ!..» Чернец с утра пораньше уже рыскал над убережьем – выискивал приговоренную им еще вчера несчастную лошадь.
– Проваливай, монах: поминки отменяются! Ничего тебе здесь не обломится! – озлясь прокричал чернецу Водяной-Бубенцов. Он погрозил винтовкой в небо и с горечью посетовал: – Жалко, что остался один-разъединственный патрон… А то я каркнул бы тебе. Так каркнул – пух полетел бы с тебя, падальника!
Он даже не поленился открыть затвор у винтовки – то ли показать лошади, что у него, действительно, остался «один-разъединственный» патрон, то ли хотел убедиться: есть ли он еще у него. Да, патрон был. И находился на месте. Там, где и надлежало ему, «разъединственному», быть – в патроннике ствола.
Наступившее утро возвестил обвальный лающий грохот. Водяной-Бубенцов встрепенулся, вслушиваясь и определяясь на местности.
– Слышь, друг ситный… а ведь молотят-то… слышь, у Синего моста молотят! И надо думать: не по пустому месту молотят-то! Стало быть… обозначилась черта «стопбитте»!
И он, весь как-то подобравшись, засобирался:
– Ну, будь здоров, чубарый! – оглаживая ладонью вдоль хребтины, он задержал взгляд на тавреном крупе. – Теперь твое «тринадцать» для меня будет самое счастливое число… Живи, друг ситный! А я, значит, потопал… Мне, значит, некогда… Я ведь тутошний… понизовский, из Доброй Воды… А это, значит, для меня будет последней и «исходная позиция»… Ша, умри. Пашка!.. – словно заклинание, шептал понизовский Пашка Бубенцов, нервно подергивая плечами. Будто не словами окатывал себя, а ошпаривал крутым кипятком.
А огненная «молотьба» шла и в самом деле уже у Синего моста, где закипал новый бой – длиною почти в три года. Это принаторевший в разбое враг укладывал по науке, шахматным порядком, мины, вспарывая вековую предъильменскую пожню. Там в высоких ее травах ночью залегли ополченцы-добровольцы. Семнадцатилетние мальчишки из окрестных деревень.
А Пашка Бубунцов торопился к Синему мосту. Как знать, может, там как раз и недоставало сейчас его «разъединственного» патрона, а может, и его разъединственной жизни… И когда он босой, но с винтовкой в руках канул в дымной уреме, чубарый щипнул травинку-другую и не заметил, как тоже пустился в путь. Только в отличие от своего спасителя Водяного он забирал в сторону от грохота, памятуя, что там – за лесами, за долами – родная поскотина…
Матюшиха в это утро пришла на берег со всем своим выводком мал мала меньше. Лицо ее опухло от слез. Видно, баба всю ночь проплакала в подушку – вот тебе и позавидовали кумушки: «Кому война, а кому – чистый прибыток». В одной руке она держала серп, в другой – большую скройку хлеба, круто посыпанную ядреной солью. Задабривая чубарого гостя подношением, она, как и вчера, принялась слезно пытать его своими расспросами:
– Лошадка, будь хорошей… Скажи тетке Луше: где хозяина-то свово потеряла? Ить не с ярмонки ж ехали, штоб все-то запамятовать?.. Не тайся, чубарка…
Снизойди сейчас на лошадь дар человеческой речи, она ничего не утаила бы от своей радетельницы. При этом возгордилась бы своим заботником, который, каждый день трудясь в поте лица ради хлеба насущного, никогда не просил для себя лишку – ни у бога, ни у жизни, ни у власти. Жил в деревне вроде бы – Тюхой-Матюхой, а на поверку вышло – первостатейный мужик! И жалко, что теперь об его исподней изнанке никогда не узнают в Новинах… И Лукерье его никто не укажет место, где остался лежать, вперившись пустыми очами в небо, ее заступа и опора, разлюбленный Матвей Елизарович Сидоркин. Нет, никто и никогда.
До убережья, вздыбленного бабьими руками, то и дело докатывались орудийные громы. Теперь они постоянно – днем и ночью – напоминали новинским, что за дальним лесом, у Синего моста идет смертный бой. Только поди разберись: чьи там бухают пушки? Чьи там сейчас валятся наземь замертво солдаты? Хорошо – вражьи… а если – свои? И как отринуть от себя эту мысль, если за лесом, ты знаешь, и твой сын, доброволец-ополченец, Виташка Сидоркин бьется там? Вот потому-то сейчас при каждом земном громе так испуганно вздрагивала новинская Матюшиха, будто каждый зазубренный осколок попадал ей прямо в грудь.
И что бы теперь Лукерья ни делала, а в мыслях одно: «Птицей бы туда слетать да посмотреть, што там счас деется?..»
И над свежеоткрытым противотанковым рвом, как с крепостной стены, повис плач матери и жены:
– Где ты счас, моя кровинушка ненаглядная, Виташка?.. Што случилось с тобой, сердешный ты мой, Матюша?.. Живы ли оба?..
Но, гоня прочь от себя черные мысли, Лукерья в который уже раз принялась упрашивать израненную лошадь:
– Ты только не молчи, чубарушка. Ты хошь по-своему побай с теткой Лушой. В народе ить не даром грится: кони ржут – к добру.
И чубарый, словно бы и впрямь вняв горю своей радетельницы, заливисто зашелся на всю округу. Может, и ему было одиноко на земле без голосов сородичей.
А где-то в вышине неба, уже с утра пораньше разъезженного железными ястребами на дымные дороги, плакал чибис. Птица выпрашивала у реки воды: «Пи-ить! Пи-ить!..» Значит, и завтра быть вёдру. А истомившаяся за лето от огненной страды земля жаждала грозы, чтобы потушить пожарища, чад которых дополз – от границ западных до далеких лесных Новин.
Уходили душные и горькие последние дни августа сорок первого…
Глава 8
Два Максимки
Декабрьским морозным утром, еще затемно, в сторону громыхающего фронта вышли трое. Ровесникам – остролицему Сеньке и крепышу Максимке – по тринадцать было, а бабки Грушиному «санапалу волыглазому» Ионке-Весне в это лето, в день начала Великой войны исполнилось двенадцать. У последнего на голове был повязан платок: шапка сгорела во время сожжения «мессерами» деревни заподлецо с землей. А другой еще не довелось раздобыть, время такое. Их снаряжение состояло из длинных санок, котелка, трех мешков и топора.
Провиант был куда скуднее: щепоть соли, завернутая в тряпицу, и по три сырые картофелины, сунутые запазуху, чтобы не замерзли.
И еще одна справка на троих из колхоза, от которого осталась одна печать и то случайно, потому что во время пожара она была в кармане Катерины-председателя, замещавшей мужа, ушедшего на фронт.
Соль и справка были доверены Сеньке, как старшо?му.
К рассвету они вышли на гатевый большак, проложенный по осени через топи болотные и леса дремучие в невообразимо короткие сроки стройбатовцами. Мчались грузовики со снарядами и оголенными говяжьими тушами. Поскрипывая полозьями саней двигались обозы с продуктами и фуражем. Нескончаемым свободным строем шли бойцы-новобранцы в белых полушубках. С причудливыми наростами инея на бровях они казались мальчишкам какими-то богатырями из сказки.
Наконец, выбрав в живом потоке небольшую прогалину, добытчики сбежали с обочины, и военный большак, как река в половодье, подхватил их своим напористым течением.
К полудню они пришли в деревню Посад, от которой вместо недавних добротных домов с веселыми резными наличниками остались лишь печные трубы да обгорелые березы. На почерневшем от пороховой гари снегу лежали трупы гитлеровцев в зеленых легких шинелях, будто бы обсыпанные сверху рисом: они были усеяны большущими застывшими вшами, навсегда отринувшими от холодных убитых тел. На ногах недавних завоевателей были крестьянские подшитые валенки. А кому не досталось разуть посадских баб, обмотали ноги поверх ботинок сеном. И еще бросилось в глаза, что хваленое воинство было уж больно мелким и скрюченным.
Замедлили шаг и бойцы, а потом и вовсе остановились, чтобы своими глазами увидеть войну в своей наготе.
Откуда ни возьмись, на дороге появился молоденький боец в истерзанной шинели.
– Братцы, закурить не найдется? – спросил он, лихо сдвигая на затылок свою замусоленную ушанку.
Новобранцы обступили фронтовика и каждый предлагал закурить из своего кисета. Тот ловко свернул «козью ножку» и от первой же затяжки зашелся в кашле.
– Ох, и хорош же табачок! – похвалил он убойное зелье, смахивая с глаз выступившую слезу.
– Так это наш, сибирский! – посмеивались бойцы.
– Что же, как видим, и их можно колошматить? – кивнул головой на обочину пожилой коренастый сибиряк с пушистыми соломенными усами.
– Чего же не можно… можно!.. Вот получим еще такие же, как у вас, автоматы и полушубки, еще и не так будем колошматить! – бойко отвечал фронтовик, с нескрываемой завистью посматривая на новое оружие и одеяние сибиряков.
– А много ли тут легло наших? – осведомился боец с широким бабьим лицом.
Фронтовик сделал несколько глубоких затяжек подряд.
– Много, братцы, – выдохнул он. – Отвоевывать обратно деревни труднее, чем их сдавать, отходя на исходные позиции.
– И откуда их такая прорва взялась, – хлопая себя по бедрам, воскликнул в сердцах усач. – От Черного и до Белого – все немцы!
– А эти-то вовсе и не немцы. Это испанцы из «Голубой дивизии», – внес поправку фронтовик и добавил: – А вообще-то бить можно и тех и других, и немцев и испанцев.
– А разве испанцы не за нас? – удивленно спросил Ионка, округлив и без того большие синие глаза. – И он машинально прочел уже давно затверженное из «Пионерской правды»: «Испания – любовь моя!».
– Теперь, дочка, не надо так говорить, – сказал боец, похожий на монгола. – Теперь все получай по носу, кто пришел к нам с ружьем.
– Такие вот бывают на свете дела, курносая, – подмигнул фронтовик.
Ионка сконфузился и непочтительно отбрил жениховатого говоруна:
– Да я такой же парень, как и ты, курносый! – и чуть не плача от обиды, он стянул с головы платок.
– И верно, парень! – загоготали бойцы.
– Дяди, не надо смеяться, нету у него шапки, – заступился за своего младшего братца Сенька. – Немецкие «мессеры» сожгли нашу деревню, тогда и шапка его сгорела.
– Проваливай, монах: поминки отменяются! Ничего тебе здесь не обломится! – озлясь прокричал чернецу Водяной-Бубенцов. Он погрозил винтовкой в небо и с горечью посетовал: – Жалко, что остался один-разъединственный патрон… А то я каркнул бы тебе. Так каркнул – пух полетел бы с тебя, падальника!
Он даже не поленился открыть затвор у винтовки – то ли показать лошади, что у него, действительно, остался «один-разъединственный» патрон, то ли хотел убедиться: есть ли он еще у него. Да, патрон был. И находился на месте. Там, где и надлежало ему, «разъединственному», быть – в патроннике ствола.
Наступившее утро возвестил обвальный лающий грохот. Водяной-Бубенцов встрепенулся, вслушиваясь и определяясь на местности.
– Слышь, друг ситный… а ведь молотят-то… слышь, у Синего моста молотят! И надо думать: не по пустому месту молотят-то! Стало быть… обозначилась черта «стопбитте»!
И он, весь как-то подобравшись, засобирался:
– Ну, будь здоров, чубарый! – оглаживая ладонью вдоль хребтины, он задержал взгляд на тавреном крупе. – Теперь твое «тринадцать» для меня будет самое счастливое число… Живи, друг ситный! А я, значит, потопал… Мне, значит, некогда… Я ведь тутошний… понизовский, из Доброй Воды… А это, значит, для меня будет последней и «исходная позиция»… Ша, умри. Пашка!.. – словно заклинание, шептал понизовский Пашка Бубенцов, нервно подергивая плечами. Будто не словами окатывал себя, а ошпаривал крутым кипятком.
А огненная «молотьба» шла и в самом деле уже у Синего моста, где закипал новый бой – длиною почти в три года. Это принаторевший в разбое враг укладывал по науке, шахматным порядком, мины, вспарывая вековую предъильменскую пожню. Там в высоких ее травах ночью залегли ополченцы-добровольцы. Семнадцатилетние мальчишки из окрестных деревень.
А Пашка Бубунцов торопился к Синему мосту. Как знать, может, там как раз и недоставало сейчас его «разъединственного» патрона, а может, и его разъединственной жизни… И когда он босой, но с винтовкой в руках канул в дымной уреме, чубарый щипнул травинку-другую и не заметил, как тоже пустился в путь. Только в отличие от своего спасителя Водяного он забирал в сторону от грохота, памятуя, что там – за лесами, за долами – родная поскотина…
Матюшиха в это утро пришла на берег со всем своим выводком мал мала меньше. Лицо ее опухло от слез. Видно, баба всю ночь проплакала в подушку – вот тебе и позавидовали кумушки: «Кому война, а кому – чистый прибыток». В одной руке она держала серп, в другой – большую скройку хлеба, круто посыпанную ядреной солью. Задабривая чубарого гостя подношением, она, как и вчера, принялась слезно пытать его своими расспросами:
– Лошадка, будь хорошей… Скажи тетке Луше: где хозяина-то свово потеряла? Ить не с ярмонки ж ехали, штоб все-то запамятовать?.. Не тайся, чубарка…
Снизойди сейчас на лошадь дар человеческой речи, она ничего не утаила бы от своей радетельницы. При этом возгордилась бы своим заботником, который, каждый день трудясь в поте лица ради хлеба насущного, никогда не просил для себя лишку – ни у бога, ни у жизни, ни у власти. Жил в деревне вроде бы – Тюхой-Матюхой, а на поверку вышло – первостатейный мужик! И жалко, что теперь об его исподней изнанке никогда не узнают в Новинах… И Лукерье его никто не укажет место, где остался лежать, вперившись пустыми очами в небо, ее заступа и опора, разлюбленный Матвей Елизарович Сидоркин. Нет, никто и никогда.
До убережья, вздыбленного бабьими руками, то и дело докатывались орудийные громы. Теперь они постоянно – днем и ночью – напоминали новинским, что за дальним лесом, у Синего моста идет смертный бой. Только поди разберись: чьи там бухают пушки? Чьи там сейчас валятся наземь замертво солдаты? Хорошо – вражьи… а если – свои? И как отринуть от себя эту мысль, если за лесом, ты знаешь, и твой сын, доброволец-ополченец, Виташка Сидоркин бьется там? Вот потому-то сейчас при каждом земном громе так испуганно вздрагивала новинская Матюшиха, будто каждый зазубренный осколок попадал ей прямо в грудь.
И что бы теперь Лукерья ни делала, а в мыслях одно: «Птицей бы туда слетать да посмотреть, што там счас деется?..»
И над свежеоткрытым противотанковым рвом, как с крепостной стены, повис плач матери и жены:
– Где ты счас, моя кровинушка ненаглядная, Виташка?.. Што случилось с тобой, сердешный ты мой, Матюша?.. Живы ли оба?..
Но, гоня прочь от себя черные мысли, Лукерья в который уже раз принялась упрашивать израненную лошадь:
– Ты только не молчи, чубарушка. Ты хошь по-своему побай с теткой Лушой. В народе ить не даром грится: кони ржут – к добру.
И чубарый, словно бы и впрямь вняв горю своей радетельницы, заливисто зашелся на всю округу. Может, и ему было одиноко на земле без голосов сородичей.
А где-то в вышине неба, уже с утра пораньше разъезженного железными ястребами на дымные дороги, плакал чибис. Птица выпрашивала у реки воды: «Пи-ить! Пи-ить!..» Значит, и завтра быть вёдру. А истомившаяся за лето от огненной страды земля жаждала грозы, чтобы потушить пожарища, чад которых дополз – от границ западных до далеких лесных Новин.
Уходили душные и горькие последние дни августа сорок первого…
Глава 8
Два Максимки
Декабрьским морозным утром, еще затемно, в сторону громыхающего фронта вышли трое. Ровесникам – остролицему Сеньке и крепышу Максимке – по тринадцать было, а бабки Грушиному «санапалу волыглазому» Ионке-Весне в это лето, в день начала Великой войны исполнилось двенадцать. У последнего на голове был повязан платок: шапка сгорела во время сожжения «мессерами» деревни заподлецо с землей. А другой еще не довелось раздобыть, время такое. Их снаряжение состояло из длинных санок, котелка, трех мешков и топора.
Провиант был куда скуднее: щепоть соли, завернутая в тряпицу, и по три сырые картофелины, сунутые запазуху, чтобы не замерзли.
И еще одна справка на троих из колхоза, от которого осталась одна печать и то случайно, потому что во время пожара она была в кармане Катерины-председателя, замещавшей мужа, ушедшего на фронт.
Соль и справка были доверены Сеньке, как старшо?му.
К рассвету они вышли на гатевый большак, проложенный по осени через топи болотные и леса дремучие в невообразимо короткие сроки стройбатовцами. Мчались грузовики со снарядами и оголенными говяжьими тушами. Поскрипывая полозьями саней двигались обозы с продуктами и фуражем. Нескончаемым свободным строем шли бойцы-новобранцы в белых полушубках. С причудливыми наростами инея на бровях они казались мальчишкам какими-то богатырями из сказки.
Наконец, выбрав в живом потоке небольшую прогалину, добытчики сбежали с обочины, и военный большак, как река в половодье, подхватил их своим напористым течением.
К полудню они пришли в деревню Посад, от которой вместо недавних добротных домов с веселыми резными наличниками остались лишь печные трубы да обгорелые березы. На почерневшем от пороховой гари снегу лежали трупы гитлеровцев в зеленых легких шинелях, будто бы обсыпанные сверху рисом: они были усеяны большущими застывшими вшами, навсегда отринувшими от холодных убитых тел. На ногах недавних завоевателей были крестьянские подшитые валенки. А кому не досталось разуть посадских баб, обмотали ноги поверх ботинок сеном. И еще бросилось в глаза, что хваленое воинство было уж больно мелким и скрюченным.
Замедлили шаг и бойцы, а потом и вовсе остановились, чтобы своими глазами увидеть войну в своей наготе.
Откуда ни возьмись, на дороге появился молоденький боец в истерзанной шинели.
– Братцы, закурить не найдется? – спросил он, лихо сдвигая на затылок свою замусоленную ушанку.
Новобранцы обступили фронтовика и каждый предлагал закурить из своего кисета. Тот ловко свернул «козью ножку» и от первой же затяжки зашелся в кашле.
– Ох, и хорош же табачок! – похвалил он убойное зелье, смахивая с глаз выступившую слезу.
– Так это наш, сибирский! – посмеивались бойцы.
– Что же, как видим, и их можно колошматить? – кивнул головой на обочину пожилой коренастый сибиряк с пушистыми соломенными усами.
– Чего же не можно… можно!.. Вот получим еще такие же, как у вас, автоматы и полушубки, еще и не так будем колошматить! – бойко отвечал фронтовик, с нескрываемой завистью посматривая на новое оружие и одеяние сибиряков.
– А много ли тут легло наших? – осведомился боец с широким бабьим лицом.
Фронтовик сделал несколько глубоких затяжек подряд.
– Много, братцы, – выдохнул он. – Отвоевывать обратно деревни труднее, чем их сдавать, отходя на исходные позиции.
– И откуда их такая прорва взялась, – хлопая себя по бедрам, воскликнул в сердцах усач. – От Черного и до Белого – все немцы!
– А эти-то вовсе и не немцы. Это испанцы из «Голубой дивизии», – внес поправку фронтовик и добавил: – А вообще-то бить можно и тех и других, и немцев и испанцев.
– А разве испанцы не за нас? – удивленно спросил Ионка, округлив и без того большие синие глаза. – И он машинально прочел уже давно затверженное из «Пионерской правды»: «Испания – любовь моя!».
– Теперь, дочка, не надо так говорить, – сказал боец, похожий на монгола. – Теперь все получай по носу, кто пришел к нам с ружьем.
– Такие вот бывают на свете дела, курносая, – подмигнул фронтовик.
Ионка сконфузился и непочтительно отбрил жениховатого говоруна:
– Да я такой же парень, как и ты, курносый! – и чуть не плача от обиды, он стянул с головы платок.
– И верно, парень! – загоготали бойцы.
– Дяди, не надо смеяться, нету у него шапки, – заступился за своего младшего братца Сенька. – Немецкие «мессеры» сожгли нашу деревню, тогда и шапка его сгорела.