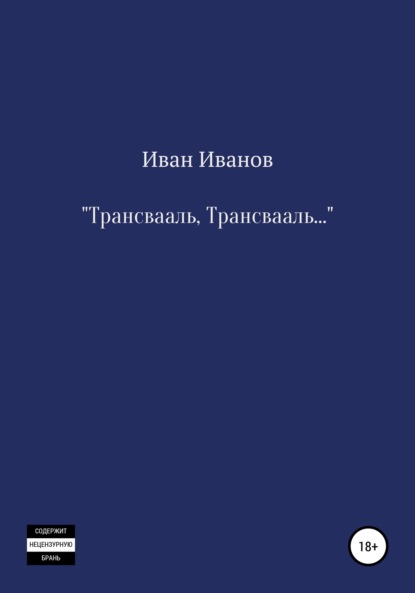По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Данила, свысока посматривая на притихших в изумлении однодеревенцев, с сожалением развел руками:
– Так уж вышло, мою Книгу зачитали с концами в госпитале. Да оно и не жалко… Для многих раненых она стала, как сказал мне на прощании главный врач, «живой водой»… А досталась она мне от дружка-однополчанина на вечную память, в его смертный час… На подступах к озеру Балатон, где довоевались до последнего патрона и тылы наши растянулись, на нас даванули танками. И более суток мы, как окаянные, драпали на закусь уже выигранной войны. Нас без устали решетили в спины пулеметными очередями, заживо рвали в клочья лязгающими гусеницами. Жуть! И мне ишшо повезло. Отделался тем, што окарзало одну ногу, по самый пах. Но перед этим, штоб легше драпалось, успел все выпростать из солдатского сидора. Кроме дарственной Книги!
И он, тяжко переведя дух и погружаясь в себя, стал читать по памяти, видно, врезавшиеся в его голову строки, как Новый Завет:
– «Да, я – жив! Да, я – не утонул, подобно моим товарищам в бушующем океане (и закончил, видно, ремаркой собственного сочинения), в океане человеческой кровушки!»
– Друже, ну и подловил же ты меня, грамотея, – громко расхохотался Леонтьев. – Да ведь это ж – Робинзон Крузо!
– Он самый, – важничая, подтвердил гость. – Для меня Робинзон, как и Иисус Христос на небеси, земной бог из странствующего сословия. А слова: «Да, я – жив!» – он сказал, когда стал размышлять над своим безвыходным положением, после крушения в море.
– Вот и нам, всем уцелевшим после такой кровавой бучи, надо радоваться такому счастью: «Да, я – жив, всем чертям назло!» – с жаром подхватил Леонтьев.
Его поддержал и книгочей-госпиталец, возвышая своего обожаемого им героя для неоглядного подражания – в борении с жизненными неудачами и в воплощении стойкости человеческого духа:
– Ну, нам-то намного легше будет обустроиться… Нас много, и мы тут, дорогой товарищ, все – однодеревенцы! А у моего Робинзона, как оказалось, соседями на другом острове были откровенные дикари, которые в пляске, запросто, могли поджарить на костре своего суседа-жизнеустроителя. Жуть!
Он, обняв за плечи онемевшую от счастья жену, шутливо представил ее Леонтьеву:
– А это уже моя… Пятница!
За Веснинской невесткой теперь так и приживется новое для нее имя из двух слов: Параскева-Пятница. Она жалась к плечу мужа, невинно улыбаясь, словно бы испрашивая у всех новинских вдов прощения в том, что ей в этой проклятущей войне повезло больше других, а своими большими росно-ясными синими глазами как бы разговаривала о муже с глухим начальником лесопункта: «Да, он у меня такой, с ним не соскучишься…»
А новинский книгочей продолжал упиваться своим литературным героем единственной прочитанной до конца книги в жизни, которого воспринял – раз и навсегда – за простого смертного, благо слушателями были милые его сердцу однодеревенцы:
– Жуть, какая злая планида выпала на его долю. Беднягу забросило на безлюдный остров и он, как бы заново народившись, начал жить в полном одиночестве, будто при новом сотворении мира. Сердяга до всего дошел своим умом, коль сама жисть принудила его к этому. И каким только он не научился ремеслам. Подумать только, наловчился Божьему промыслу – обжигать горшки!
Вконец взбудораженные новинские аборигены решили, на ночь глядя, закатить триединый праздник: наконец-то справить Серафимово новоселье, отметить возвращение из госпиталя фронтовика Данилы-Причумажного и встретить новый – мирный – год. А с ним проводить в Лету сразу четыре старых военных года, будь они неладными.
Да что там скрывать, набедовавшись в сырых землянках, просто всем хотелось подольше «пообитать» в избяном тепле. В этом приподнятом настрое новинцы и разошлись по своим земляным норам, чтобы немного приодеться, если было у кого во что по тем погорельским временам, и прихватить к общему столу, чем были богаты…
Долго гуляли у Серафима Однокрылого в первой послевоенной избе деревни в ту памятную новогоднюю ночь на одна тысяча девятьсот сорок шестого…
Наконец-то в Новинах, деревне русской, бывшей деревянной, наступило равноденствие между войной и миром, с поворотом на мир…
Глава 11
Сад, ты мой сад…
Кажется, давно ли это все было, когда он, Ионка-Весня, жил в погорельской деревне военного лихолетья, обитая в сырой землянке. Ходил в залатанной одежонке и вдрызг разбитой обувке, с никогда не проходящим в животе ноющим желанием чего-нибудь поесть. Но даже и тогда в его несносной жизни не только было все горько и черно. Запомнились ему и светлые зарницы. И вот уже перед ним распахнулась памятная весна сорок шестого – невыносимо тяжкая: куда ни глянь, всюду кололи глаз остывшие пожарища и нежить войны.
В ту ослепительно солнечную, нестерпимо голодную весну они, всей веснинской породой, сильно поредевшей от войны, ранними да поздними упрягами рубили себе дом, в память о Великой войне – с широким, во всю стену кухни, «итальянским» окном. Одноногий дядька-крестный, Данила-Причумажный, сидя верхом на бревне, искусно правил угол «в лапу», тетка-крестная, Параскева-Пятница, проворно пятясь на подмостях, деревянным чертком с острым гвоздем на конце дорожила на верхнем бревне паз, который потом сноровисто выбирал теслом их крестник Ионка-Весня. Домовая правительница бабка Груша верховодила внизу. Что ни раз наклонится, то воздаст хвалу высокому небу: «Слате Осподи, што спослал мир и согласие на земле». И тут же по-доброму делится с ним земными откровениями: «Когда на дворе кончаются дрова, заводи строить дом!»
Ах, как звонко переговаривались на тех гулких зорях в мирной тишине их навостренные топоры. Лучше-то всякой музыки!
Когда сруб был подведен под крышу (торопились до холодов перебраться из землянки в избяное тепло, для начала хотя бы на кухню), в Новины пришла из «рая» разнарядка: направление на учебу в школу садоводства. И жребий идти в садоводы пал на него, Ионку Веснина, как на сироту войны…
Через два года Иона Веснин вернулся к себе в деревню уже дипломированным садоводом. Теперь однодеревенцы будут называть его, кто – новинским Мичуриным, кто – Преобразователем Природы! Эти высокие звания перейдут к нему с ярких плакатов-лубков, которые он привез из областной школы садоводства и украсил ими простенки в колхозном правлении. На одном лыбился добрый старик с клинообразной бородкой всесоюзного старосты и в соломенной простецкой шляпе. На другом стоял в маршальском кителе, но без погон, черноусый Вождь-Генералиссимус, любуясь раскинувшейся перед ним радужной перспективой: на ровной, как столешница, бескрайней ниве строгими рядами уходили к туманившемуся в голубой дымке горизонту кудрявые деревца с диковинными краснобокими плодами. Мечтательно щурясь, он курил «трубку мира», сизый дымок которой начертал в безоблачном лазоревом небе над обихоженной землей, осиянной лучами невидимого в зените солнца, его мудрый завет народам: «Преобразуем природу!»
В ту осень новинский Мичурин заложил сад-маточник, аж из двух десятков сортовых яблонь-однолеток, которыми он был премирован областной садоводческой школой за примерное усердие в учебе. И весь этот живой дар, завернутый в рогожу, он принес в деревню на заплечных помочах. Высеял в грядки, под снег, и семена дичков на подвой. Этой малостью он на зачин, раз и навсегда определил себя в свое большое будущее. Казалось, дай срок – и он все сможет, все осилит, всего добьется! Сад – посаженные на кряжу яблоневые прутики – стал для него, как и для всей новинской округи, таким же одушевленным понятием с заглавной буквы, как Река, Луг, Болото, Березуга, Лиман, Омут, Грива, Пожня.
И только как исключение, назывались на особицу, новопосаженные яблони на речном солнечном угоре – «Ионкин Сад».
На третью весну Ионкин сад робко зацвел. А первый яблоневый цвет для начинающего садовода, как и первая любовь, незабываемый… Облетела розовая душистая пороша, а там, глядь, и завязь на ветках уже стала наливаться соками земли и солнца. В одно из тех ранних утров, как всегда такое случается нежданно-негаданно, деревню затопило половодьем пьянящих запахов лугового разнотравья. Нагрянул сенокос, и молодой садовод уехал на дальние приозерские пожни метать стога да тискать девок.
И пока он вместе с новинскими косарями правил сенокосную страду на неоглядных пожнях Предъильменья, в деревне лихие правленцы, чтобы не платить налог, сгубили его именной колхозный сад. И вышла пребольшущая, как нарек новинский однорукий бригадир Грач-Отченаш, отчебуча! Когда в одну руку заставили взять яблоньку для посадки, а в другую вложили топор, чтобы немедля срубить ее под самый корешок. Воистину, вышло прямо-таки, как когда-то говаривала графиня-старшая – Ростова, «по-русску!» Это то же самое, что и «по-колхозному»: с глаз долой – из сердца вон!
Когда же молодой садовод Иона Веснин прознал на пожне про неслыханную для него напасть, которую привез возница, доставивший продукты косарям, как был голышом (собрался было перед обедом искупаться в лимане под ракитами), айдаком в охляб, без седла, обратал подвернувшуюся под руку лошадь и во весь-то опор помчался к себе в деревню. И поныне вспоминают по-доброму земляки, как он, до черноты пропеченный июльским солнцем и насквозь пропахший приозерным разнотравьем, «со звоном разнес дрыном все окна в правлении».
И еще неизвестно, чем бы все это закончилось, не повяжи его набежавшие бабы. А новинские, они – такие! В престолы до обеда стряпают у печки, а после обеда на зеленых заулках бесстрашно вяжут полотенцами своих пьяных буянов. Потом – смех и грех – натянули на него чьи-то порты, вынесенные из ближнего дома; исцеловали всего, словно он доводился им сыном, братом или женихом, и с миром проводили до веснинского высокого «княжьего» крыльца с вычурной выпилкой и точеными балясинами, распиленными на плашки.
А дома-то в этот кошмарный час его душевного потрясения как раз никого и не случилось. Крестные, с которыми он жил, были на колхозной работе. Бабка Груша, хранительница ею мальчишьих тайн и душевною покоя, жала в кустовье речного подгорья дудчатую хряпу для поросенка…
Очнулся он лежа посреди горницы, под очепным железным кольцом своего младенства, с опаленной веревкой шеей, слыша, как бы из Небытия бабкин сказ из «Жития» его небесного тезки и покровителя Ионы-пророка:
И было слово Господне к Ионе,
Сыну Амафиину: встань и иди —
Иди в Ниневию[3 - Ниневия – древняя столица Ассирии, куда был послан пророк Иона объявить Суды божьи.], город великий…
Она стояла чуть поодаль от него, оторопело прижимая к груди, будто крест, остро назубренный серп, больносердно журя внука:
– Да на какой же ты грех-то решился, санапал волыглазый, а? Своей невинной душой надумал сделать укор… И кому, спрашивается? Энто нашим-то упырям бездельным да безбожным? Да они только позубоскалили бы над тобой: одним строптивцем стало, мол, меньше на белом свете… Не подоспей я вовремя придти домой руку перевязать, штоб унять кровь, – быть бы непоправимой беде, от которой вконец бы заглох наш веснинский корень. Видно, сам Всевышний дал мне свой вещий знак, когда я резанула серпом себе по мизинцу.
И с этими словами бабка Груша, кыркая осипшим голосом, подстреленной большой птицей грузно рухнула на распластанного посреди горницы внука, как бы укрывая его невидимыми крылами своего заступничества.
Землистые ее руки, не боявшиеся жгучей крапивы, как и обрывок веревки, были в крови. И поверженный внук, видно, осознав, что все над ним и вокруг него – кровь и горе, очепное кольцо своего Младенства и милосердная бабка Груша – все здесь было для него до саднящей боли кондово-родовое, но как бы теперь впервые увиденное им…
Он повернулся на бок, вперясь опустошенным взглядом в стену, и его плечи дрогнули.
– Поплачь, поплачь, а душе-то и полегчает, – сказала бабка Груша, поднимаясь на ноги. – А то, што сгубили твой сад, – не бери в голову. Никто и ничегошеньки о нем и не заикнется… А вота, за раскокошенные-то окна в правлении – теперича жди беды. Поди и в острог ить надолго засадят, штоб другим неповадно было, как кокошить окна в правлениях да конторах…
И укатали б горячего сивку – крутые горки. Как миленького засадили б в острог, «штоб другим не повадно было…» А то, что сад его именной был сгублен – бабка Груша, как в воду глядела, об этом даже никто и не заикнулся… Да хорошо – подоспело время править действительную службу Отечеству.
А так бы, ей-ей, укатали б, черт побери!
Уже через годы, будучи бравым моряком-балтийцем, но в душе все еще оставаясь крестьянским сыном, Иона Веснин нет-нет да и спросит себя: «Неужели и вправду надо было кому-то сгубить мой сад?» И он не находил на это ответа, только как бы сыпал соль на незаживающую рану. И чем чаще военный моряк ворошил свое деревенское прошлое, тем больше ожесточался к родной стороне, которая в те минуты казалась ему злой мачехой. Через это отчуждение он даже не поехал к себе в Новины, когда подошел его черед отпуска. Вместе с другом-казахом махнул к нему в гости в гурьевское Прикаспие, где ему навсегда запомнилось первое степное утро.
…В тот ранний час, когда далекий темно-русый гость вышел из белой юрты, поставленной в честь «народов-побратимов», небесный кузнец только что начал разводить свой горн на кромке степного окоема. А внизу, в прозрачном лимане, похожем на овальное блюдо с пологими краями, стояла по брюхо в воде далеких Уральских отрогов соловая кобыла желтоватой масти со светлым хвостом и гривой.
А позади ее, на темной песчаной мокрядине, по-ягнячьи – скоком! – носился сосунок-попрыгун чалой масти, пепельно-серой с черным хвостом и гривой. Над ними, за краем «блюда», на меже травы и песка, лежали, словно серые и черные валуны, овцы и козы. И лишь матерый пегий козел с витыми, как у старого черта, рожищами и звонким балабоном на шее был на ногах. Плюясь и сердито бормоча, он все пятился и пятился дальше от стада, словно собираясь с разбегу сразиться с владыкой неба, большелобым Солнцем, которое вот-вот выкатится из-за края земли раскаленным жерновом. А у крайней юрты, съехавшей поближе к воде, старуха в голубой бархатной кацавейке и в повязанном по-девичьи низко на лоб цветастом платке колдовала у казана, над которым кудрявился прямым деревцом сизый кизяковый дымок. Рядом, на войлочной кошме, сидел сивобородый старик в стеганом халате и круглой тюбетейке, с причмоком попыхивая трубкой с коротким самшитовым чубуком. Время от времени он поворачивал голову и коротко, по-хозяйски, что-то выговаривал серо-пепельной верблюдице с припавшим к ее вымени белым верблюжонком на растопыренных ногах.
Отпускники-сослуживцы стояли поодаль, на пригорке, в величественной стойке изваяний, как бы в ожидании чуда: восхода солнца.
И на что бы в это ранее утро заезжий гость ни перевел свой взгляд, ото всего тут на него веяло вечностью. И перед Ионкой, как бы в яви, всплыла вчерашняя встреча его друга Мурата с родными палестинами, который, едва успев обняться с родичами, сорвал с себя форменную полотняную белую рубаху с голубым воротником, оставаясь в тельняшке-безрукавке, и обратав стоявшего тут коня, полосатым чертом-айдаком помчался в степь, оглашая ее в честь гостя, по-русски, ошалелым ором:
– Здравствуй, Сте-епь! Здравствуй, дедушка Оре-ел!.. – И он уже скрылся из виду за выжженным солнцем до черноты увалом.
«Вот так, видно, и надо желать и любить свой край… – не без белой зависти подумал далекий гость. – Да как я мог из-за кого-то осерчать на Реку своего Детства?.. Нет-нет, я сейчас как и Мурат, должен быть только у себя в Новинах, и нигде более!..»
– Так уж вышло, мою Книгу зачитали с концами в госпитале. Да оно и не жалко… Для многих раненых она стала, как сказал мне на прощании главный врач, «живой водой»… А досталась она мне от дружка-однополчанина на вечную память, в его смертный час… На подступах к озеру Балатон, где довоевались до последнего патрона и тылы наши растянулись, на нас даванули танками. И более суток мы, как окаянные, драпали на закусь уже выигранной войны. Нас без устали решетили в спины пулеметными очередями, заживо рвали в клочья лязгающими гусеницами. Жуть! И мне ишшо повезло. Отделался тем, што окарзало одну ногу, по самый пах. Но перед этим, штоб легше драпалось, успел все выпростать из солдатского сидора. Кроме дарственной Книги!
И он, тяжко переведя дух и погружаясь в себя, стал читать по памяти, видно, врезавшиеся в его голову строки, как Новый Завет:
– «Да, я – жив! Да, я – не утонул, подобно моим товарищам в бушующем океане (и закончил, видно, ремаркой собственного сочинения), в океане человеческой кровушки!»
– Друже, ну и подловил же ты меня, грамотея, – громко расхохотался Леонтьев. – Да ведь это ж – Робинзон Крузо!
– Он самый, – важничая, подтвердил гость. – Для меня Робинзон, как и Иисус Христос на небеси, земной бог из странствующего сословия. А слова: «Да, я – жив!» – он сказал, когда стал размышлять над своим безвыходным положением, после крушения в море.
– Вот и нам, всем уцелевшим после такой кровавой бучи, надо радоваться такому счастью: «Да, я – жив, всем чертям назло!» – с жаром подхватил Леонтьев.
Его поддержал и книгочей-госпиталец, возвышая своего обожаемого им героя для неоглядного подражания – в борении с жизненными неудачами и в воплощении стойкости человеческого духа:
– Ну, нам-то намного легше будет обустроиться… Нас много, и мы тут, дорогой товарищ, все – однодеревенцы! А у моего Робинзона, как оказалось, соседями на другом острове были откровенные дикари, которые в пляске, запросто, могли поджарить на костре своего суседа-жизнеустроителя. Жуть!
Он, обняв за плечи онемевшую от счастья жену, шутливо представил ее Леонтьеву:
– А это уже моя… Пятница!
За Веснинской невесткой теперь так и приживется новое для нее имя из двух слов: Параскева-Пятница. Она жалась к плечу мужа, невинно улыбаясь, словно бы испрашивая у всех новинских вдов прощения в том, что ей в этой проклятущей войне повезло больше других, а своими большими росно-ясными синими глазами как бы разговаривала о муже с глухим начальником лесопункта: «Да, он у меня такой, с ним не соскучишься…»
А новинский книгочей продолжал упиваться своим литературным героем единственной прочитанной до конца книги в жизни, которого воспринял – раз и навсегда – за простого смертного, благо слушателями были милые его сердцу однодеревенцы:
– Жуть, какая злая планида выпала на его долю. Беднягу забросило на безлюдный остров и он, как бы заново народившись, начал жить в полном одиночестве, будто при новом сотворении мира. Сердяга до всего дошел своим умом, коль сама жисть принудила его к этому. И каким только он не научился ремеслам. Подумать только, наловчился Божьему промыслу – обжигать горшки!
Вконец взбудораженные новинские аборигены решили, на ночь глядя, закатить триединый праздник: наконец-то справить Серафимово новоселье, отметить возвращение из госпиталя фронтовика Данилы-Причумажного и встретить новый – мирный – год. А с ним проводить в Лету сразу четыре старых военных года, будь они неладными.
Да что там скрывать, набедовавшись в сырых землянках, просто всем хотелось подольше «пообитать» в избяном тепле. В этом приподнятом настрое новинцы и разошлись по своим земляным норам, чтобы немного приодеться, если было у кого во что по тем погорельским временам, и прихватить к общему столу, чем были богаты…
Долго гуляли у Серафима Однокрылого в первой послевоенной избе деревни в ту памятную новогоднюю ночь на одна тысяча девятьсот сорок шестого…
Наконец-то в Новинах, деревне русской, бывшей деревянной, наступило равноденствие между войной и миром, с поворотом на мир…
Глава 11
Сад, ты мой сад…
Кажется, давно ли это все было, когда он, Ионка-Весня, жил в погорельской деревне военного лихолетья, обитая в сырой землянке. Ходил в залатанной одежонке и вдрызг разбитой обувке, с никогда не проходящим в животе ноющим желанием чего-нибудь поесть. Но даже и тогда в его несносной жизни не только было все горько и черно. Запомнились ему и светлые зарницы. И вот уже перед ним распахнулась памятная весна сорок шестого – невыносимо тяжкая: куда ни глянь, всюду кололи глаз остывшие пожарища и нежить войны.
В ту ослепительно солнечную, нестерпимо голодную весну они, всей веснинской породой, сильно поредевшей от войны, ранними да поздними упрягами рубили себе дом, в память о Великой войне – с широким, во всю стену кухни, «итальянским» окном. Одноногий дядька-крестный, Данила-Причумажный, сидя верхом на бревне, искусно правил угол «в лапу», тетка-крестная, Параскева-Пятница, проворно пятясь на подмостях, деревянным чертком с острым гвоздем на конце дорожила на верхнем бревне паз, который потом сноровисто выбирал теслом их крестник Ионка-Весня. Домовая правительница бабка Груша верховодила внизу. Что ни раз наклонится, то воздаст хвалу высокому небу: «Слате Осподи, што спослал мир и согласие на земле». И тут же по-доброму делится с ним земными откровениями: «Когда на дворе кончаются дрова, заводи строить дом!»
Ах, как звонко переговаривались на тех гулких зорях в мирной тишине их навостренные топоры. Лучше-то всякой музыки!
Когда сруб был подведен под крышу (торопились до холодов перебраться из землянки в избяное тепло, для начала хотя бы на кухню), в Новины пришла из «рая» разнарядка: направление на учебу в школу садоводства. И жребий идти в садоводы пал на него, Ионку Веснина, как на сироту войны…
Через два года Иона Веснин вернулся к себе в деревню уже дипломированным садоводом. Теперь однодеревенцы будут называть его, кто – новинским Мичуриным, кто – Преобразователем Природы! Эти высокие звания перейдут к нему с ярких плакатов-лубков, которые он привез из областной школы садоводства и украсил ими простенки в колхозном правлении. На одном лыбился добрый старик с клинообразной бородкой всесоюзного старосты и в соломенной простецкой шляпе. На другом стоял в маршальском кителе, но без погон, черноусый Вождь-Генералиссимус, любуясь раскинувшейся перед ним радужной перспективой: на ровной, как столешница, бескрайней ниве строгими рядами уходили к туманившемуся в голубой дымке горизонту кудрявые деревца с диковинными краснобокими плодами. Мечтательно щурясь, он курил «трубку мира», сизый дымок которой начертал в безоблачном лазоревом небе над обихоженной землей, осиянной лучами невидимого в зените солнца, его мудрый завет народам: «Преобразуем природу!»
В ту осень новинский Мичурин заложил сад-маточник, аж из двух десятков сортовых яблонь-однолеток, которыми он был премирован областной садоводческой школой за примерное усердие в учебе. И весь этот живой дар, завернутый в рогожу, он принес в деревню на заплечных помочах. Высеял в грядки, под снег, и семена дичков на подвой. Этой малостью он на зачин, раз и навсегда определил себя в свое большое будущее. Казалось, дай срок – и он все сможет, все осилит, всего добьется! Сад – посаженные на кряжу яблоневые прутики – стал для него, как и для всей новинской округи, таким же одушевленным понятием с заглавной буквы, как Река, Луг, Болото, Березуга, Лиман, Омут, Грива, Пожня.
И только как исключение, назывались на особицу, новопосаженные яблони на речном солнечном угоре – «Ионкин Сад».
На третью весну Ионкин сад робко зацвел. А первый яблоневый цвет для начинающего садовода, как и первая любовь, незабываемый… Облетела розовая душистая пороша, а там, глядь, и завязь на ветках уже стала наливаться соками земли и солнца. В одно из тех ранних утров, как всегда такое случается нежданно-негаданно, деревню затопило половодьем пьянящих запахов лугового разнотравья. Нагрянул сенокос, и молодой садовод уехал на дальние приозерские пожни метать стога да тискать девок.
И пока он вместе с новинскими косарями правил сенокосную страду на неоглядных пожнях Предъильменья, в деревне лихие правленцы, чтобы не платить налог, сгубили его именной колхозный сад. И вышла пребольшущая, как нарек новинский однорукий бригадир Грач-Отченаш, отчебуча! Когда в одну руку заставили взять яблоньку для посадки, а в другую вложили топор, чтобы немедля срубить ее под самый корешок. Воистину, вышло прямо-таки, как когда-то говаривала графиня-старшая – Ростова, «по-русску!» Это то же самое, что и «по-колхозному»: с глаз долой – из сердца вон!
Когда же молодой садовод Иона Веснин прознал на пожне про неслыханную для него напасть, которую привез возница, доставивший продукты косарям, как был голышом (собрался было перед обедом искупаться в лимане под ракитами), айдаком в охляб, без седла, обратал подвернувшуюся под руку лошадь и во весь-то опор помчался к себе в деревню. И поныне вспоминают по-доброму земляки, как он, до черноты пропеченный июльским солнцем и насквозь пропахший приозерным разнотравьем, «со звоном разнес дрыном все окна в правлении».
И еще неизвестно, чем бы все это закончилось, не повяжи его набежавшие бабы. А новинские, они – такие! В престолы до обеда стряпают у печки, а после обеда на зеленых заулках бесстрашно вяжут полотенцами своих пьяных буянов. Потом – смех и грех – натянули на него чьи-то порты, вынесенные из ближнего дома; исцеловали всего, словно он доводился им сыном, братом или женихом, и с миром проводили до веснинского высокого «княжьего» крыльца с вычурной выпилкой и точеными балясинами, распиленными на плашки.
А дома-то в этот кошмарный час его душевного потрясения как раз никого и не случилось. Крестные, с которыми он жил, были на колхозной работе. Бабка Груша, хранительница ею мальчишьих тайн и душевною покоя, жала в кустовье речного подгорья дудчатую хряпу для поросенка…
Очнулся он лежа посреди горницы, под очепным железным кольцом своего младенства, с опаленной веревкой шеей, слыша, как бы из Небытия бабкин сказ из «Жития» его небесного тезки и покровителя Ионы-пророка:
И было слово Господне к Ионе,
Сыну Амафиину: встань и иди —
Иди в Ниневию[3 - Ниневия – древняя столица Ассирии, куда был послан пророк Иона объявить Суды божьи.], город великий…
Она стояла чуть поодаль от него, оторопело прижимая к груди, будто крест, остро назубренный серп, больносердно журя внука:
– Да на какой же ты грех-то решился, санапал волыглазый, а? Своей невинной душой надумал сделать укор… И кому, спрашивается? Энто нашим-то упырям бездельным да безбожным? Да они только позубоскалили бы над тобой: одним строптивцем стало, мол, меньше на белом свете… Не подоспей я вовремя придти домой руку перевязать, штоб унять кровь, – быть бы непоправимой беде, от которой вконец бы заглох наш веснинский корень. Видно, сам Всевышний дал мне свой вещий знак, когда я резанула серпом себе по мизинцу.
И с этими словами бабка Груша, кыркая осипшим голосом, подстреленной большой птицей грузно рухнула на распластанного посреди горницы внука, как бы укрывая его невидимыми крылами своего заступничества.
Землистые ее руки, не боявшиеся жгучей крапивы, как и обрывок веревки, были в крови. И поверженный внук, видно, осознав, что все над ним и вокруг него – кровь и горе, очепное кольцо своего Младенства и милосердная бабка Груша – все здесь было для него до саднящей боли кондово-родовое, но как бы теперь впервые увиденное им…
Он повернулся на бок, вперясь опустошенным взглядом в стену, и его плечи дрогнули.
– Поплачь, поплачь, а душе-то и полегчает, – сказала бабка Груша, поднимаясь на ноги. – А то, што сгубили твой сад, – не бери в голову. Никто и ничегошеньки о нем и не заикнется… А вота, за раскокошенные-то окна в правлении – теперича жди беды. Поди и в острог ить надолго засадят, штоб другим неповадно было, как кокошить окна в правлениях да конторах…
И укатали б горячего сивку – крутые горки. Как миленького засадили б в острог, «штоб другим не повадно было…» А то, что сад его именной был сгублен – бабка Груша, как в воду глядела, об этом даже никто и не заикнулся… Да хорошо – подоспело время править действительную службу Отечеству.
А так бы, ей-ей, укатали б, черт побери!
Уже через годы, будучи бравым моряком-балтийцем, но в душе все еще оставаясь крестьянским сыном, Иона Веснин нет-нет да и спросит себя: «Неужели и вправду надо было кому-то сгубить мой сад?» И он не находил на это ответа, только как бы сыпал соль на незаживающую рану. И чем чаще военный моряк ворошил свое деревенское прошлое, тем больше ожесточался к родной стороне, которая в те минуты казалась ему злой мачехой. Через это отчуждение он даже не поехал к себе в Новины, когда подошел его черед отпуска. Вместе с другом-казахом махнул к нему в гости в гурьевское Прикаспие, где ему навсегда запомнилось первое степное утро.
…В тот ранний час, когда далекий темно-русый гость вышел из белой юрты, поставленной в честь «народов-побратимов», небесный кузнец только что начал разводить свой горн на кромке степного окоема. А внизу, в прозрачном лимане, похожем на овальное блюдо с пологими краями, стояла по брюхо в воде далеких Уральских отрогов соловая кобыла желтоватой масти со светлым хвостом и гривой.
А позади ее, на темной песчаной мокрядине, по-ягнячьи – скоком! – носился сосунок-попрыгун чалой масти, пепельно-серой с черным хвостом и гривой. Над ними, за краем «блюда», на меже травы и песка, лежали, словно серые и черные валуны, овцы и козы. И лишь матерый пегий козел с витыми, как у старого черта, рожищами и звонким балабоном на шее был на ногах. Плюясь и сердито бормоча, он все пятился и пятился дальше от стада, словно собираясь с разбегу сразиться с владыкой неба, большелобым Солнцем, которое вот-вот выкатится из-за края земли раскаленным жерновом. А у крайней юрты, съехавшей поближе к воде, старуха в голубой бархатной кацавейке и в повязанном по-девичьи низко на лоб цветастом платке колдовала у казана, над которым кудрявился прямым деревцом сизый кизяковый дымок. Рядом, на войлочной кошме, сидел сивобородый старик в стеганом халате и круглой тюбетейке, с причмоком попыхивая трубкой с коротким самшитовым чубуком. Время от времени он поворачивал голову и коротко, по-хозяйски, что-то выговаривал серо-пепельной верблюдице с припавшим к ее вымени белым верблюжонком на растопыренных ногах.
Отпускники-сослуживцы стояли поодаль, на пригорке, в величественной стойке изваяний, как бы в ожидании чуда: восхода солнца.
И на что бы в это ранее утро заезжий гость ни перевел свой взгляд, ото всего тут на него веяло вечностью. И перед Ионкой, как бы в яви, всплыла вчерашняя встреча его друга Мурата с родными палестинами, который, едва успев обняться с родичами, сорвал с себя форменную полотняную белую рубаху с голубым воротником, оставаясь в тельняшке-безрукавке, и обратав стоявшего тут коня, полосатым чертом-айдаком помчался в степь, оглашая ее в честь гостя, по-русски, ошалелым ором:
– Здравствуй, Сте-епь! Здравствуй, дедушка Оре-ел!.. – И он уже скрылся из виду за выжженным солнцем до черноты увалом.
«Вот так, видно, и надо желать и любить свой край… – не без белой зависти подумал далекий гость. – Да как я мог из-за кого-то осерчать на Реку своего Детства?.. Нет-нет, я сейчас как и Мурат, должен быть только у себя в Новинах, и нигде более!..»