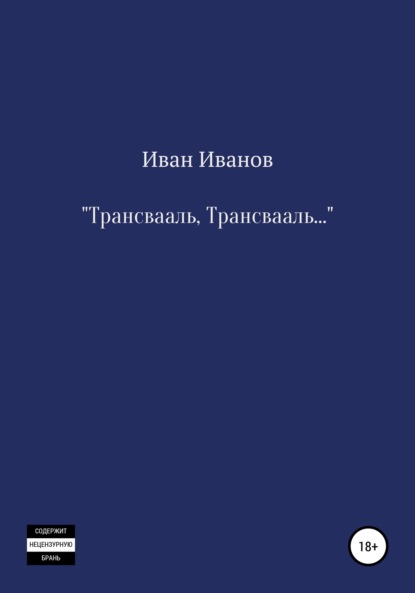По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И напрасно потом уговаривал его черноволосый сослуживец остаться погостить у него, хотя бы на неделю:
– Братан, Иона, ты что, забыл наш уговор: ловить в лиманах Урала рыбу, объезжать табунных молодых коней, охотиться в степи на фазанов?
– Спасибо, братан Мурат, и прости меня, но я должен уехать…
Глава 12
Лешачиха
Таким вот кружным путем вышел тот приезд Ионы Веснина в свои Новины. И в первый же вечер по приезде балтийца срочной службы на побывку, тетка-крестная Параскева-Пятница, придя с фермы, послала его гонцом:
– Крестник, ты у нас легок на ногу, отнеси корыто Молодой Лешачихе.
Зачем оно ей там понадобилось, Параскева-Пятница не сказала, а сам гость спросить не догадался.
Теткина товарка жила на отшибе деревни, на юру глубокого черемухового урочища, которое новинцы называли Лешачьим. Видно, за то, что там гнездовали в дуплах огромные ушастые совы; за ночные крики и дикий хохот старухи называли их лесными дивами.
В годы войны к Новинам прибилась беженка Мария с чернявой дочкой Маришкой, обжив на юру урочища старый сенной сарай. По-бабьи, как сумели, разгородили развалюху на две половины: одна стала – хлевом для их козы, другая по тем погорельским временам в прифронтовой полосе – настоящими «хоромами». И как только они поселились по соседству с лесными дивами, их за бесстрашие сразу же прозвали Лешачихами: старой и молодой. После войны, когда умерла Мария, дружба с Параскевой-Пятницей и работа на ферме перешли к дочери Марине…
Облачившись в видавший виды дождевик и разномастные резиновые сапоги – один уже немало поношенный, другой по причине одноногости дяди совершенно новый – и вышел из дома балтиец с корытом подмышкой. Темные низкие тучи с треском вспарывались искрометными зигзагами молний, от раскатов грома дрожала под ногами земля, а он шел сквозь косой крупный дождь, словно продираясь через ольховый чащобник, и посмеивался про себя: «Молодая Лешачиха, видно, затевает купать своего очередного Лешачонка». Сколько Иона помнил, рано повзрослевшая темнокудрая окатая хохотушка Маришка, лишь годом старше его, всегда невестилась: то ли выходила, то ли собиралась выходить за кого-то замуж. И все это получалось у нее всякий раз как-то наспех, комкано. По какой-то забывчивости она не догадывалась вовремя накинуть узду на новоявленного жениха – взять под руку своего избранника и повести в сельсовет, чтобы услышать от него при свидетелях клятву на верность и вечную любовь. А когда спохватывалась, было уже поздно: ищи ветра и поле…
Гость, запамятовав про низкие «хоромы», смаху хватанул лбом об дверной косяк. На стук в избе отозвалось заливистым лаем.
– Перестань, Дамка, оглохнуть можно от твоего звяканья! – распахивая дверь, пристрожила лохматый живой клубок грудастая молодуха с высоко подоткнутым за пояс подолом. За изрубленным вдрызг вдовьим порогом, на залитом водой полу стояла с мешковиной в руках новинская Лешачиха. – Гляди в ноги, половица там прогнила.
Перед поздним гостем она в удивлении вытаращилась и как-то воркующе пропела грудным голосом:
– Ох тошно мне… Здра-асте, Преобразователь Природы! – Балтийцу показалось, что хозяйка лешачьих «хоро?м» по случаю встречи сейчас полезет целоваться, и он отгородился корытом, промямлив:
– Вот… крестная прислала.
– Да я только пошутила твоей тетке, когда спросила: нет ли у тебя, мол, лишнего корыта? При моем-то потопе… – Марина бросила на пол тряпку, расправила юбку и, подойдя к простенку, подвернула фитиль у керосинной лампы-семилинейки.
Не ахти какой свет еще больше обнажил убогость жилища. На мокром полу была расставлена вся, видимо, имеющаяся в хозяйстве утварь – корыта, кадушки, ведра, противни, – в которой на разные тона вызванивалась бойкая капель, падающая с почерневшего потолка. В борьбе со стихией помогал матери ее старший сын лет восьми: опоражнивал посильную посуду, выливая воду через окно.
На другой половине хибары, сидя на табурете, играла с самодельной тряпичной куклой темнокудрая девочка лет четырех, очень смахивающая на мать. Одновременно она качала ногой ивовую зыбку на гибкой жерди-очепе, покрикивая на хныкающего карапуза:
– Чё развякался? Сичас возьму и наслепаю! – Кроха с любопытством уставилась на подошедшего гостя. Разглядев на нем через распахнутый дождевик флотскую форму, ее большие синие глаза широко распахнулись да так от удивления и остановились по-кукольному красиво. Потом она, с хитринкой глянув на простенок, где в раме под стеклом теснились разных форматов фотографии мамкиных ухажеров, радостно спросила:
– Ты мой папка?.. Ты плиехал, да!
– Твой папка, моряк – с печки бряк, далеко уплыл от тебя, – выручила гостя мать крохи. И наигранно рассмеявшись, скороговоркой пояснила ему: – В одно лето речники рвали толом фарватер на перекате Ушкуй-Иван. – И в легком смущении она указала глазами на дочь: «И вот… память о той брандвахте».
– Да-а, – безутешно заплакала дочка. – Ты сама говолила, что мой папка когда-нибудь плиедет ко мне.
– Когда-нибудь и приедет, когда ему совсем станет худо жить где-то, – обнадежила мать.
От неловкости балтиец сунул руку в карман дождевика, и на его счастье в одном из них нашелся дядин плотницкий карандаш, заточенный на два конца. Им-то он и осчастливил кроху, которая тут же успокоилась и принялась старательно «оживлять» свою куклу. На пустом тряпичном лице вывела синим цветом неровные кружочки-глаза, красным обвела ревуший рот и снова стала синим чиркать беспорядочно по верху головы, лепеча:
– Она у меня, как моя мама: класивая и кутлявая!
А за окном дождь припустил пуще прежнего. Еще звонче и занудистее затенькала капель в расставленной на полу утвари. Марина в бессилии что-то поделать со стихией, махнула рукой:
– А-а, пошло все к лешему! Хватит, Ванятка, все равно нам не переносить небо в ведрах на улицу. Лучше поставлю самовар – чай будем пить с гостем. Слава Богу, дожили до пряников! – Это было сказано с такой наигранной беззаботностью, словно сейчас только и не хватало, как сесть за стол и – всему на зло – распивать чаи с пряниками.
Сын же продолжал греметь противнями и нечаянно опрокинул ведро. На залитом полу не стало от этого мокрее, но в матери, видно, что-то сорвалось, она подбежала к сыну, наградив его звонким подзатыльником:
– Кому было сказано, чтоб перестал? Вот бакенщик-то упрямый!
Ванятка, потирая ладошкой незаслуженную затрещину, не заплакал, лишь обидчиво прогундосил, будто дав под дых матери:
– Бакенщик был – твой хахаль, Федька-пьяница… Ты лучше б так влепила нашему председателю. Поллитру выпил, петуха Гришку сожрал, с тобой ночевал, кот усатый, а как крышу покрыть – забы-ыл!
Откровением сына мать была сражена наповал. Она рухнула перед ним на колени и стала целовать его лицо и голову, исступленно шепча, как покаянную молитву:
– Сынушка, родненький, прости свою мамку – дуру блажную…
И никогда не унывающая Лешачиха заплакала навзрыд.
От этой сцены у Ионы по спине побежали цепкие холодные мураши. Из детства он хорошо помнил многоголосый безутешный бабий плач на нескошенном заречном лугу, когда деревня провожала мужиков на войну. Помнил он и проклятия новинских баб, когда железные крестатые коршуны огнем ровняли заподлицо с землей Новины. Но то горе было для всех одно – война… Тут же была просто житейская беда, с которой цветущая еще женщина не могла совладать один на один. К тому же он хорошо знал, что молодая Лешачиха, как и его любимая крестная, с зари до зари тянет свою нелегкую лямку на ферме. Только ей было еще труднее, ее тропка до коровника втрое длиннее теткиной.
– Марина, прости, что я не сказал тебе сразу, – выдохнул балтиец первое, что прибрело ему на ум в эти минуты. – Ну, просто запамятовал! – В доказательство своей забывчивости он даже стукнул кулаком себе по лбу. – Дядька мой, Данила-Причумажный, велел передать, что завтра к тебе придут мужики перекрывать крышу.
– Из этих «завтра» можно уже свить веревку для петли, – отмахнулась Марина, продолжая виниться теперь уже перед собачонкой, которая заняла сторону обиженного мальчишки.
– Полай, Дамка, полай на свою непутевую хозяйку.
Иона выскочил из Лешачихиной развалюхи, как из угарной риги, и не зная на ком сорвать зло, прокричал грохочущему небу:
– Чего льешь? – И отбрасывая придумку о добродетельных мужиках, которые без раскачки, враз, пришли бы поправлять беду соломенной вдове, призвал хмарное небо себе в свидетели. – Вот увидишь, завтра переверну вверх дном всю деревню, но крыша Лешачихе будет. Бу-дет!
И снова балтиец шел по темной новинской улице, не разбирая луж. Шел и распалял себя в мыслях, как завтра утром в правлении гневно бросит слова: «Товарищ председатель, а за съеденного на шармака петуха у доярки надо б рассчитаться!»
Расслышав глухой звон ударявшего железа по дереву, гость догадался, что поравнялся с пожарным навесом, где порывистый ветер, раскачивая на веревке вагонный буфер, ударял его об столб. Он рванулся к навесу, сграбастал со столба тележный шкворень и со всего плеча громыхнул по дремавшему в немоте железу.
Засыпающая в ночной мокряди деревня замерла, надеясь, что это ей почудилось спросонья… Но вот захлопали двери, загремели пустые ведра, послышались первые заполошные голоса:
– Караул, горим!
– Где, что горит?
– Лешачиха горит! – все так же безотчетно прокричал балтиец, не переставая жахать шкворнем по билу.
И вот уже высыпавшая на проливной дождь деревня лавиной хлынула к Лешачьему урочищу. И каждый бежал с каким-то орудием в руках, какое надлежало иметь каждому по пожарному расписанию (на табличках домов, под фамилией хозяина, были пририсованы – багор, ухват, топор или ведро).
Первым прибыл на место, как и положено было ему, однорукий Сим Грачев. Сходу обежав Лешачихины «хоромы» и не увидев нигде полыхающего огня, он ринулся в распахнутую настежь дверь темных сеней, где, как и балтиец, смаху бухнулся лбом об верхний косяк. А ввалившись в Лешачихины покои и тут не увидев огня, кроме горевшей лампехи в простенке, несказанно удивился:
– Чертиха кудрявая, да ты горишь али не горишь, обченаш?
– Братан, Иона, ты что, забыл наш уговор: ловить в лиманах Урала рыбу, объезжать табунных молодых коней, охотиться в степи на фазанов?
– Спасибо, братан Мурат, и прости меня, но я должен уехать…
Глава 12
Лешачиха
Таким вот кружным путем вышел тот приезд Ионы Веснина в свои Новины. И в первый же вечер по приезде балтийца срочной службы на побывку, тетка-крестная Параскева-Пятница, придя с фермы, послала его гонцом:
– Крестник, ты у нас легок на ногу, отнеси корыто Молодой Лешачихе.
Зачем оно ей там понадобилось, Параскева-Пятница не сказала, а сам гость спросить не догадался.
Теткина товарка жила на отшибе деревни, на юру глубокого черемухового урочища, которое новинцы называли Лешачьим. Видно, за то, что там гнездовали в дуплах огромные ушастые совы; за ночные крики и дикий хохот старухи называли их лесными дивами.
В годы войны к Новинам прибилась беженка Мария с чернявой дочкой Маришкой, обжив на юру урочища старый сенной сарай. По-бабьи, как сумели, разгородили развалюху на две половины: одна стала – хлевом для их козы, другая по тем погорельским временам в прифронтовой полосе – настоящими «хоромами». И как только они поселились по соседству с лесными дивами, их за бесстрашие сразу же прозвали Лешачихами: старой и молодой. После войны, когда умерла Мария, дружба с Параскевой-Пятницей и работа на ферме перешли к дочери Марине…
Облачившись в видавший виды дождевик и разномастные резиновые сапоги – один уже немало поношенный, другой по причине одноногости дяди совершенно новый – и вышел из дома балтиец с корытом подмышкой. Темные низкие тучи с треском вспарывались искрометными зигзагами молний, от раскатов грома дрожала под ногами земля, а он шел сквозь косой крупный дождь, словно продираясь через ольховый чащобник, и посмеивался про себя: «Молодая Лешачиха, видно, затевает купать своего очередного Лешачонка». Сколько Иона помнил, рано повзрослевшая темнокудрая окатая хохотушка Маришка, лишь годом старше его, всегда невестилась: то ли выходила, то ли собиралась выходить за кого-то замуж. И все это получалось у нее всякий раз как-то наспех, комкано. По какой-то забывчивости она не догадывалась вовремя накинуть узду на новоявленного жениха – взять под руку своего избранника и повести в сельсовет, чтобы услышать от него при свидетелях клятву на верность и вечную любовь. А когда спохватывалась, было уже поздно: ищи ветра и поле…
Гость, запамятовав про низкие «хоромы», смаху хватанул лбом об дверной косяк. На стук в избе отозвалось заливистым лаем.
– Перестань, Дамка, оглохнуть можно от твоего звяканья! – распахивая дверь, пристрожила лохматый живой клубок грудастая молодуха с высоко подоткнутым за пояс подолом. За изрубленным вдрызг вдовьим порогом, на залитом водой полу стояла с мешковиной в руках новинская Лешачиха. – Гляди в ноги, половица там прогнила.
Перед поздним гостем она в удивлении вытаращилась и как-то воркующе пропела грудным голосом:
– Ох тошно мне… Здра-асте, Преобразователь Природы! – Балтийцу показалось, что хозяйка лешачьих «хоро?м» по случаю встречи сейчас полезет целоваться, и он отгородился корытом, промямлив:
– Вот… крестная прислала.
– Да я только пошутила твоей тетке, когда спросила: нет ли у тебя, мол, лишнего корыта? При моем-то потопе… – Марина бросила на пол тряпку, расправила юбку и, подойдя к простенку, подвернула фитиль у керосинной лампы-семилинейки.
Не ахти какой свет еще больше обнажил убогость жилища. На мокром полу была расставлена вся, видимо, имеющаяся в хозяйстве утварь – корыта, кадушки, ведра, противни, – в которой на разные тона вызванивалась бойкая капель, падающая с почерневшего потолка. В борьбе со стихией помогал матери ее старший сын лет восьми: опоражнивал посильную посуду, выливая воду через окно.
На другой половине хибары, сидя на табурете, играла с самодельной тряпичной куклой темнокудрая девочка лет четырех, очень смахивающая на мать. Одновременно она качала ногой ивовую зыбку на гибкой жерди-очепе, покрикивая на хныкающего карапуза:
– Чё развякался? Сичас возьму и наслепаю! – Кроха с любопытством уставилась на подошедшего гостя. Разглядев на нем через распахнутый дождевик флотскую форму, ее большие синие глаза широко распахнулись да так от удивления и остановились по-кукольному красиво. Потом она, с хитринкой глянув на простенок, где в раме под стеклом теснились разных форматов фотографии мамкиных ухажеров, радостно спросила:
– Ты мой папка?.. Ты плиехал, да!
– Твой папка, моряк – с печки бряк, далеко уплыл от тебя, – выручила гостя мать крохи. И наигранно рассмеявшись, скороговоркой пояснила ему: – В одно лето речники рвали толом фарватер на перекате Ушкуй-Иван. – И в легком смущении она указала глазами на дочь: «И вот… память о той брандвахте».
– Да-а, – безутешно заплакала дочка. – Ты сама говолила, что мой папка когда-нибудь плиедет ко мне.
– Когда-нибудь и приедет, когда ему совсем станет худо жить где-то, – обнадежила мать.
От неловкости балтиец сунул руку в карман дождевика, и на его счастье в одном из них нашелся дядин плотницкий карандаш, заточенный на два конца. Им-то он и осчастливил кроху, которая тут же успокоилась и принялась старательно «оживлять» свою куклу. На пустом тряпичном лице вывела синим цветом неровные кружочки-глаза, красным обвела ревуший рот и снова стала синим чиркать беспорядочно по верху головы, лепеча:
– Она у меня, как моя мама: класивая и кутлявая!
А за окном дождь припустил пуще прежнего. Еще звонче и занудистее затенькала капель в расставленной на полу утвари. Марина в бессилии что-то поделать со стихией, махнула рукой:
– А-а, пошло все к лешему! Хватит, Ванятка, все равно нам не переносить небо в ведрах на улицу. Лучше поставлю самовар – чай будем пить с гостем. Слава Богу, дожили до пряников! – Это было сказано с такой наигранной беззаботностью, словно сейчас только и не хватало, как сесть за стол и – всему на зло – распивать чаи с пряниками.
Сын же продолжал греметь противнями и нечаянно опрокинул ведро. На залитом полу не стало от этого мокрее, но в матери, видно, что-то сорвалось, она подбежала к сыну, наградив его звонким подзатыльником:
– Кому было сказано, чтоб перестал? Вот бакенщик-то упрямый!
Ванятка, потирая ладошкой незаслуженную затрещину, не заплакал, лишь обидчиво прогундосил, будто дав под дых матери:
– Бакенщик был – твой хахаль, Федька-пьяница… Ты лучше б так влепила нашему председателю. Поллитру выпил, петуха Гришку сожрал, с тобой ночевал, кот усатый, а как крышу покрыть – забы-ыл!
Откровением сына мать была сражена наповал. Она рухнула перед ним на колени и стала целовать его лицо и голову, исступленно шепча, как покаянную молитву:
– Сынушка, родненький, прости свою мамку – дуру блажную…
И никогда не унывающая Лешачиха заплакала навзрыд.
От этой сцены у Ионы по спине побежали цепкие холодные мураши. Из детства он хорошо помнил многоголосый безутешный бабий плач на нескошенном заречном лугу, когда деревня провожала мужиков на войну. Помнил он и проклятия новинских баб, когда железные крестатые коршуны огнем ровняли заподлицо с землей Новины. Но то горе было для всех одно – война… Тут же была просто житейская беда, с которой цветущая еще женщина не могла совладать один на один. К тому же он хорошо знал, что молодая Лешачиха, как и его любимая крестная, с зари до зари тянет свою нелегкую лямку на ферме. Только ей было еще труднее, ее тропка до коровника втрое длиннее теткиной.
– Марина, прости, что я не сказал тебе сразу, – выдохнул балтиец первое, что прибрело ему на ум в эти минуты. – Ну, просто запамятовал! – В доказательство своей забывчивости он даже стукнул кулаком себе по лбу. – Дядька мой, Данила-Причумажный, велел передать, что завтра к тебе придут мужики перекрывать крышу.
– Из этих «завтра» можно уже свить веревку для петли, – отмахнулась Марина, продолжая виниться теперь уже перед собачонкой, которая заняла сторону обиженного мальчишки.
– Полай, Дамка, полай на свою непутевую хозяйку.
Иона выскочил из Лешачихиной развалюхи, как из угарной риги, и не зная на ком сорвать зло, прокричал грохочущему небу:
– Чего льешь? – И отбрасывая придумку о добродетельных мужиках, которые без раскачки, враз, пришли бы поправлять беду соломенной вдове, призвал хмарное небо себе в свидетели. – Вот увидишь, завтра переверну вверх дном всю деревню, но крыша Лешачихе будет. Бу-дет!
И снова балтиец шел по темной новинской улице, не разбирая луж. Шел и распалял себя в мыслях, как завтра утром в правлении гневно бросит слова: «Товарищ председатель, а за съеденного на шармака петуха у доярки надо б рассчитаться!»
Расслышав глухой звон ударявшего железа по дереву, гость догадался, что поравнялся с пожарным навесом, где порывистый ветер, раскачивая на веревке вагонный буфер, ударял его об столб. Он рванулся к навесу, сграбастал со столба тележный шкворень и со всего плеча громыхнул по дремавшему в немоте железу.
Засыпающая в ночной мокряди деревня замерла, надеясь, что это ей почудилось спросонья… Но вот захлопали двери, загремели пустые ведра, послышались первые заполошные голоса:
– Караул, горим!
– Где, что горит?
– Лешачиха горит! – все так же безотчетно прокричал балтиец, не переставая жахать шкворнем по билу.
И вот уже высыпавшая на проливной дождь деревня лавиной хлынула к Лешачьему урочищу. И каждый бежал с каким-то орудием в руках, какое надлежало иметь каждому по пожарному расписанию (на табличках домов, под фамилией хозяина, были пририсованы – багор, ухват, топор или ведро).
Первым прибыл на место, как и положено было ему, однорукий Сим Грачев. Сходу обежав Лешачихины «хоромы» и не увидев нигде полыхающего огня, он ринулся в распахнутую настежь дверь темных сеней, где, как и балтиец, смаху бухнулся лбом об верхний косяк. А ввалившись в Лешачихины покои и тут не увидев огня, кроме горевшей лампехи в простенке, несказанно удивился:
– Чертиха кудрявая, да ты горишь али не горишь, обченаш?