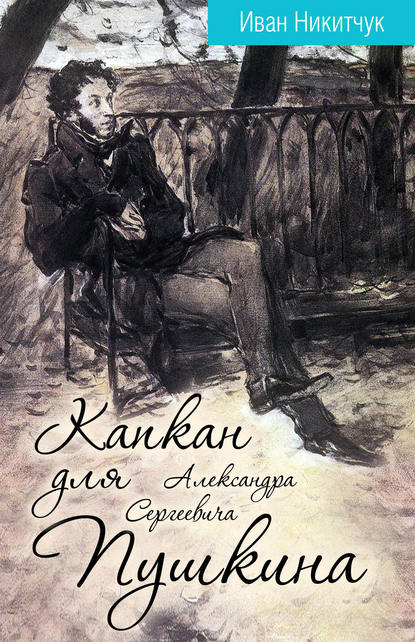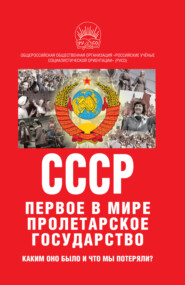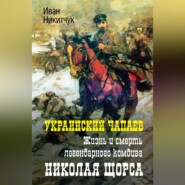По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Капкан для Александра Сергеевича Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она кончила и засияла на него теплыми глазами. Он пьянил ее своим волшебным даром…
– Вы… милый… – дрогнула она голосом. – Я пред вами в долгу…
Она хотела было спрятать стихи в шкатулку, как вдруг он выхватил их из ее рук и спрятал за спину: «Нет, – бешеной молнией пронеслось у него в мозгу, – я чужд ей, и для нее это только один лишний трофей!»
Она не поняла, что было в его взволнованной душе.
– Но это совсем не хорошо с вашей стороны… – опечалилась она. – Я от вас этого не ожидала…
В раскрытые настежь окна уже слышалось пофыркивание лошадей и позванивание бубенчиков: четверня ожидала у крыльца. А она низким, теплым голосом умоляла его отдать ей ее стихи… И наконец, не в силах противиться ей, уступил…
Еще немного, и четверня унесла ее с Анной Николаевной и Алешей – он провожал дам до первой станции – в солнечные дали, а поэт, расстроенный, поскакал домой. Никогда еще не была так тяжка ему его неволя… И через несколько дней он писал уехавшей на взморье Анне Николаевне:
«Все Тригорское поет: “Не мила ей прелесть ночи…” – и это сжимает мне сердце. Вчера мы с Алексеем Николаевичем говорили четыре часа подряд. Никогда у нас с ним не было такого долгого разговора. Узнайте, что нас вдруг соединило. Мука? Сходство чувства? Не знаю… Я все ночи хожу по саду, я говорю: “она была здесь…”, камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, рядом с ним – завядший гелиотроп. Я пишу много стихов. Все это, если угодно, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что ее нет. Если бы я был влюблен, мною в воскресенье, когда Алексей Николаевич сел в ее карету, овладели бы судороги бешенства и ревности, а я был только задет. Однако мысль, что я для нее ничто, что, разбудив ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни более рассеянной среди ее триумфов, ни более пасмурной во дни ее печали, что ее прекрасные глаза будут останавливаться на каком-нибудь рижском фате с тем же душу разрывающим сладострастным выражением – нет, эта мысль для меня невыносима!..»
У Анны Николаевны, читая его письмо, из глаз одна за другой на беспорядочно исписанный листок бумаги, от которого пахло его табаком, капали и капали слезы…
Целое лето он оставался в плену чар Анны Петровны Керн. Между ними завязалась переписка, в которой они признавались в чувствах. Он мечтает о ее приезде в Тригорское, предлагает бросить мужа и приехать в Михайловское. И она приехала в Тригорское, но с мужем, и это было невыносимо для влюбленного сердца поэта…
Царь отказал ему в поездке за границу и даже в Ревель. Высочайше было разрешено на поездку в Псков для консультаций с врачами по поводу аневризма. Друзья в Петербурге также занимались придуманным им аневризмом, даже известного хирурга было уговорили приехать в Михайловское и сделать операцию. Но Пушкин отказался принимать доктора.
Он интенсивно переписывается, пишет статьи, продолжает работать над «Борисом Годуновым»…
Незаметно пришла осень.
Уж небо осенью дышало, —
перечитывал Пушкин новую, только что отделанную главу «Онегина», —
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день.
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора…
И в самом деле, за запотевшими окнами уже ворожила рыжая колдунья осень. Это было любимое время Пушкина: никогда в году не работал он с таким аппетитом, как осенью, когда ливни, холод и непролазная грязь накрепко запирали его в Михайловском. Осенью упоительный запах яблок и соломы наполнял все комнаты. Порывы за границу, на волю, стихли. Недавно, в сентябре, он ездил в Псков засвидетельствовать у начальства свой выдуманный аневризм, и хотя он и получил там по-приятельски казенную бумажку, удостоверяющую его скорую кончину, но дальше дело не пошло. Он понял, что обмануть правителей будет все же трудно. Достать денег тоже ему было негде. Приятели, узнав, на что он их ищет, всячески это дело тормозили. А главное, осенью работа захватывала его с головой…
Он бросил свое изгрызенное перо и, громко зевая, потянулся так, что все суставы хрустнули. Потом посмотрел на часы: время подвигалось к полудню, но обедать было рано. На глаза попалось только что полученное письмо князя П. А. Вяземского, с которым он поддерживал приятельскую переписку. Пушкин хотел было ответить на письмо приятеля, но тотчас же бросил эту мысль: он устал. Он обежал глазами стол и остановился на начисто переписанном «Борисе Годунове». В заголовке толстой тетради было старательно выписано: «Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Летопись о многих мятежах и проч. Писано бысть рабом Божиим Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Вороноче». Он потянулся к рукописи, открыл ее и побежал глазами по строкам:
Наряжены мы вместе город ведать…
Не прошло и нескольких минут, как свое творение захватило его целиком, и он, встав, разыгрывал вслух страницу за страницей… Подошло и прошло время обеда. Няня не раз подслушивала у дверей, что делает ее любимец, но, заслышав чтение, отходила прочь: в такие минуты беспокоить его было нельзя. А он разыгрывал уже сцену между царем и Семеном Годуновым:
…Вечор он угощал
Своих друзей: обоих Милославских,
Бутурлиных, Михайла Салтыкова,
Да Пушкина, да несколько других.
А разошлись уж поздно. Только Пушкин
Наедине с хозяином остался
И долго с ним беседовал еще…
«Сейчас послать за Шуйским…» – «Государь,
Он здесь уже…» – «Позвать его сюда…
Сношения с Литвою… Это что?
Противен мне род Пушкиных мятежный!..»
Он не мог удержать веселого смеха… И дочитал до последней страницы, постоял, подумал и, утомленный, опустился на стул… И, вдруг просияв – его веселило ощущение силы, – он треснул кулаком по столу, забил в ладоши и закричал:
– Ай да Пушкин!.. Ай да сукин сын!..
И, щелкнув себя по лбу, воскликнул, как Андрей Шенье перед эшафотом:
– Да, тут что-то есть!
Дверь тихонько приотворилась.
– Ну, чего ты тут все орешь? – заворчала от порога Арина Родионовна. – Аль опять накатило?.. Иди обедать: простыло уже все…
Он крепко обхватил старуху и стал кружить ее по комнате.
– Нянька, твой Александр Сергеич так отличился, что дальше некуда!.. – кричал он. – Понимаешь ли ты, старуха, кого ты на погибель себе и всему роду христианскому вынянчила?..
– Да пусти, греховодник!.. Отстань, говорю!.. Ух, дыханья нету… Пусти!..
Поправляя повойник и тяжело дыша, она стояла посредине комнаты и смотрела на него веселыми и добрыми глазами.
– Непременно пошлю это комедийное действо царю… – продолжал он весело. – Пусть читает, пусть казнится!.. А потом, конечно, вызовет меня к себе. Я приезжаю, расшаркиваюсь, – он проделывал все это в лицах, – и подсыпаю: не угодно ли еще вот это, ваше величество?.. Ась? – Он принял величественную позу и всемилостивейше проговорил: «Помилуйте, Александр Сергеич, вы доставляете нам приятное занятие… Наше царское правило: дела не делай, а от дела не бегай…» – И, округлив локти и расшаркиваясь, он изобразил и себя: «Но мы со всем нашим полным удовольствием, ваше величество…»
– Экой озорник!.. – качала головой нянюшка. – Тебе бы только медведей по ярмонкам водить. Нет, ведь недаром царь на цепочку-то посадил!.. Отпусти тебя, ты всю Рассею вверх тормашками поставишь… Ну, иди уж, иди: я на закуску тебе свеженьких груздочков подала, в сметане, как ты любишь…
– А тогда необходимо рюмочку померанцевой…
– Да уж дам!.. Иди… – сказала няня… Неожиданно она, остановив его, почти шепотом спросила: – А что у тебя опять с Оленькой-то? И днем, и ночью девка глаз не осушает…
– Я… решительно не знаю ничего… Что случилось?..
– То и случилось… Ты ее пожаливай маненько… Она девка мягкая, покорливая… Мое дело сторона, а ты все-таки пожаливай… Ну, иди уж, иди, баловник…
Он, смущенный, прошел в столовую, но скоро успокоился: так, бабьи причуды какие-нибудь… Он выпил, закусил груз-дочками и с большим удовольствием пообедал. Потом, встав, подошел к запотевшему окну столовой. Он чувствовал себя усталым и думал, что прокатиться верхом в Тригорское было бы очень хорошо. Но сильный ветер бился среди деревьев, срывая с них последние листья, по небу валами катились низкие, серо-синие тучи, и все было так мокро, что даже в комнатах чувствовалась эта сырость. Вороны, взлохмаченные, нелепые, боком летели из-за нахмурившейся и вздувшейся Сороти, и две пегие сороки прыгали и трещали по забору. Уныло все было, неприветливо, холодно… Скрипя старыми половицами, он прошелся всеми комнатами с их уже ветхими обоями и старой мебелью. Он подошел к биллиарду, взял кий и прицелился:
– Ну, красного в угол… – сказал он себе и с треском положил шар на место. – А теперь…
– Барин, голубчик…
Он быстро обернулся: пред ним стояла Ольга. Она была бледна, губы ее тряслись, а в милых, детских голубых глазах стояли слезы. Она была необычайно трогательна. Он быстро подошел к ней…
– Что с тобой, Оленька? – тепло сказал он. – Мне и няня сегодня говорила, что ты что-то не в своей тарелке… Что случилось?
– Вы… милый… – дрогнула она голосом. – Я пред вами в долгу…
Она хотела было спрятать стихи в шкатулку, как вдруг он выхватил их из ее рук и спрятал за спину: «Нет, – бешеной молнией пронеслось у него в мозгу, – я чужд ей, и для нее это только один лишний трофей!»
Она не поняла, что было в его взволнованной душе.
– Но это совсем не хорошо с вашей стороны… – опечалилась она. – Я от вас этого не ожидала…
В раскрытые настежь окна уже слышалось пофыркивание лошадей и позванивание бубенчиков: четверня ожидала у крыльца. А она низким, теплым голосом умоляла его отдать ей ее стихи… И наконец, не в силах противиться ей, уступил…
Еще немного, и четверня унесла ее с Анной Николаевной и Алешей – он провожал дам до первой станции – в солнечные дали, а поэт, расстроенный, поскакал домой. Никогда еще не была так тяжка ему его неволя… И через несколько дней он писал уехавшей на взморье Анне Николаевне:
«Все Тригорское поет: “Не мила ей прелесть ночи…” – и это сжимает мне сердце. Вчера мы с Алексеем Николаевичем говорили четыре часа подряд. Никогда у нас с ним не было такого долгого разговора. Узнайте, что нас вдруг соединило. Мука? Сходство чувства? Не знаю… Я все ночи хожу по саду, я говорю: “она была здесь…”, камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, рядом с ним – завядший гелиотроп. Я пишу много стихов. Все это, если угодно, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что ее нет. Если бы я был влюблен, мною в воскресенье, когда Алексей Николаевич сел в ее карету, овладели бы судороги бешенства и ревности, а я был только задет. Однако мысль, что я для нее ничто, что, разбудив ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни более рассеянной среди ее триумфов, ни более пасмурной во дни ее печали, что ее прекрасные глаза будут останавливаться на каком-нибудь рижском фате с тем же душу разрывающим сладострастным выражением – нет, эта мысль для меня невыносима!..»
У Анны Николаевны, читая его письмо, из глаз одна за другой на беспорядочно исписанный листок бумаги, от которого пахло его табаком, капали и капали слезы…
Целое лето он оставался в плену чар Анны Петровны Керн. Между ними завязалась переписка, в которой они признавались в чувствах. Он мечтает о ее приезде в Тригорское, предлагает бросить мужа и приехать в Михайловское. И она приехала в Тригорское, но с мужем, и это было невыносимо для влюбленного сердца поэта…
Царь отказал ему в поездке за границу и даже в Ревель. Высочайше было разрешено на поездку в Псков для консультаций с врачами по поводу аневризма. Друзья в Петербурге также занимались придуманным им аневризмом, даже известного хирурга было уговорили приехать в Михайловское и сделать операцию. Но Пушкин отказался принимать доктора.
Он интенсивно переписывается, пишет статьи, продолжает работать над «Борисом Годуновым»…
Незаметно пришла осень.
Уж небо осенью дышало, —
перечитывал Пушкин новую, только что отделанную главу «Онегина», —
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день.
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора…
И в самом деле, за запотевшими окнами уже ворожила рыжая колдунья осень. Это было любимое время Пушкина: никогда в году не работал он с таким аппетитом, как осенью, когда ливни, холод и непролазная грязь накрепко запирали его в Михайловском. Осенью упоительный запах яблок и соломы наполнял все комнаты. Порывы за границу, на волю, стихли. Недавно, в сентябре, он ездил в Псков засвидетельствовать у начальства свой выдуманный аневризм, и хотя он и получил там по-приятельски казенную бумажку, удостоверяющую его скорую кончину, но дальше дело не пошло. Он понял, что обмануть правителей будет все же трудно. Достать денег тоже ему было негде. Приятели, узнав, на что он их ищет, всячески это дело тормозили. А главное, осенью работа захватывала его с головой…
Он бросил свое изгрызенное перо и, громко зевая, потянулся так, что все суставы хрустнули. Потом посмотрел на часы: время подвигалось к полудню, но обедать было рано. На глаза попалось только что полученное письмо князя П. А. Вяземского, с которым он поддерживал приятельскую переписку. Пушкин хотел было ответить на письмо приятеля, но тотчас же бросил эту мысль: он устал. Он обежал глазами стол и остановился на начисто переписанном «Борисе Годунове». В заголовке толстой тетради было старательно выписано: «Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Летопись о многих мятежах и проч. Писано бысть рабом Божиим Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Вороноче». Он потянулся к рукописи, открыл ее и побежал глазами по строкам:
Наряжены мы вместе город ведать…
Не прошло и нескольких минут, как свое творение захватило его целиком, и он, встав, разыгрывал вслух страницу за страницей… Подошло и прошло время обеда. Няня не раз подслушивала у дверей, что делает ее любимец, но, заслышав чтение, отходила прочь: в такие минуты беспокоить его было нельзя. А он разыгрывал уже сцену между царем и Семеном Годуновым:
…Вечор он угощал
Своих друзей: обоих Милославских,
Бутурлиных, Михайла Салтыкова,
Да Пушкина, да несколько других.
А разошлись уж поздно. Только Пушкин
Наедине с хозяином остался
И долго с ним беседовал еще…
«Сейчас послать за Шуйским…» – «Государь,
Он здесь уже…» – «Позвать его сюда…
Сношения с Литвою… Это что?
Противен мне род Пушкиных мятежный!..»
Он не мог удержать веселого смеха… И дочитал до последней страницы, постоял, подумал и, утомленный, опустился на стул… И, вдруг просияв – его веселило ощущение силы, – он треснул кулаком по столу, забил в ладоши и закричал:
– Ай да Пушкин!.. Ай да сукин сын!..
И, щелкнув себя по лбу, воскликнул, как Андрей Шенье перед эшафотом:
– Да, тут что-то есть!
Дверь тихонько приотворилась.
– Ну, чего ты тут все орешь? – заворчала от порога Арина Родионовна. – Аль опять накатило?.. Иди обедать: простыло уже все…
Он крепко обхватил старуху и стал кружить ее по комнате.
– Нянька, твой Александр Сергеич так отличился, что дальше некуда!.. – кричал он. – Понимаешь ли ты, старуха, кого ты на погибель себе и всему роду христианскому вынянчила?..
– Да пусти, греховодник!.. Отстань, говорю!.. Ух, дыханья нету… Пусти!..
Поправляя повойник и тяжело дыша, она стояла посредине комнаты и смотрела на него веселыми и добрыми глазами.
– Непременно пошлю это комедийное действо царю… – продолжал он весело. – Пусть читает, пусть казнится!.. А потом, конечно, вызовет меня к себе. Я приезжаю, расшаркиваюсь, – он проделывал все это в лицах, – и подсыпаю: не угодно ли еще вот это, ваше величество?.. Ась? – Он принял величественную позу и всемилостивейше проговорил: «Помилуйте, Александр Сергеич, вы доставляете нам приятное занятие… Наше царское правило: дела не делай, а от дела не бегай…» – И, округлив локти и расшаркиваясь, он изобразил и себя: «Но мы со всем нашим полным удовольствием, ваше величество…»
– Экой озорник!.. – качала головой нянюшка. – Тебе бы только медведей по ярмонкам водить. Нет, ведь недаром царь на цепочку-то посадил!.. Отпусти тебя, ты всю Рассею вверх тормашками поставишь… Ну, иди уж, иди: я на закуску тебе свеженьких груздочков подала, в сметане, как ты любишь…
– А тогда необходимо рюмочку померанцевой…
– Да уж дам!.. Иди… – сказала няня… Неожиданно она, остановив его, почти шепотом спросила: – А что у тебя опять с Оленькой-то? И днем, и ночью девка глаз не осушает…
– Я… решительно не знаю ничего… Что случилось?..
– То и случилось… Ты ее пожаливай маненько… Она девка мягкая, покорливая… Мое дело сторона, а ты все-таки пожаливай… Ну, иди уж, иди, баловник…
Он, смущенный, прошел в столовую, но скоро успокоился: так, бабьи причуды какие-нибудь… Он выпил, закусил груз-дочками и с большим удовольствием пообедал. Потом, встав, подошел к запотевшему окну столовой. Он чувствовал себя усталым и думал, что прокатиться верхом в Тригорское было бы очень хорошо. Но сильный ветер бился среди деревьев, срывая с них последние листья, по небу валами катились низкие, серо-синие тучи, и все было так мокро, что даже в комнатах чувствовалась эта сырость. Вороны, взлохмаченные, нелепые, боком летели из-за нахмурившейся и вздувшейся Сороти, и две пегие сороки прыгали и трещали по забору. Уныло все было, неприветливо, холодно… Скрипя старыми половицами, он прошелся всеми комнатами с их уже ветхими обоями и старой мебелью. Он подошел к биллиарду, взял кий и прицелился:
– Ну, красного в угол… – сказал он себе и с треском положил шар на место. – А теперь…
– Барин, голубчик…
Он быстро обернулся: пред ним стояла Ольга. Она была бледна, губы ее тряслись, а в милых, детских голубых глазах стояли слезы. Она была необычайно трогательна. Он быстро подошел к ней…
– Что с тобой, Оленька? – тепло сказал он. – Мне и няня сегодня говорила, что ты что-то не в своей тарелке… Что случилось?