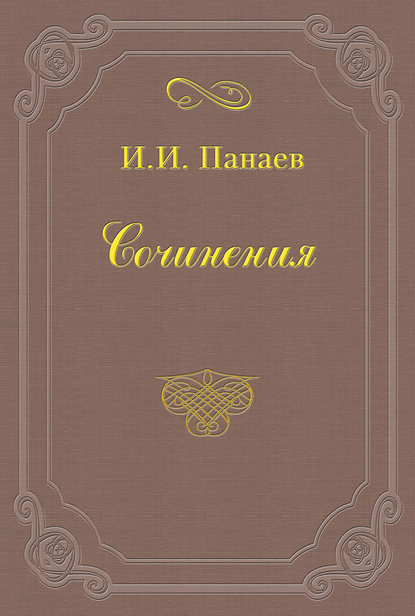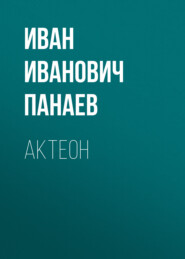По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Актеон
Автор
Год написания книги
1860
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Помилуйте, нисколько… Так вы до сих пор гуляли? Прасковья Павловна значительно взглянула на своего сына и на Анеточку, которая разливала чай.
Петр Александрыч молчал, но посматривал на жену искоса. Прасковья Павловна начала бить такт ложечкой по своей чашке…
– Сегодня был прелестный вечер, – сказала дочь бедных, но благородных родителей… – Вы далеко гуляли, милая Ольга Михайловна?
– Довольно далеко.
– Ах, как жаль, – я не знала, что вы идете, – а уж я непременно навязалась бы вам в компаньонки. Обожаю гулять в сумерки!
– Зачем же навязываться? – заметила Прасковья Павловна. – Может статься, Ольге Михайловне неприятно было бы гулять с тобой; ты, душенька, может, помешала бы ей… мечтать.
Ольга Михайловна ничего не отвечала на это замечание. Минуты две в комнате царствовало безмолвие, нарушаемое только всхрапыванием лакея в передней. Вдруг среди этой тишины послышался отдаленный звон дорожного колокольчика, ближе и ближе, громче и громче…
– Что это значит? – вскрикнула Прасковья Павловна.
– Ах, кто бы это? – воскликнула дочь бедных, но благородных родителей.
И Петр Александрыч оживился… Он встал с своего кресла и, начиная третий стакан чаю с ромом, сказал:
– Уж не к нам ли?
Даже у Ольги Михайловны забилось сердце при звуках этого колокольчика.
Но вот уже раздался лошадиный топот, кажется, у самого крыльца; вот колокольчик перестал заливаться, задребезжал и смолк.
Все, кроме Ольги Михайловны, бросились в переднюю.
– Здесь, братец, Петр Александрыч? – кричал кто-то на крыльце. – Дома он?
Этот голос был знаком только Петру Александрычу; Прасковья Павловна с Анеточкой выбежали из передней.
– Возьми сальные свечи со стола да принеси поскорей восковые, – сказала Прасковья Павловна, толкая в спину лакея, – слышишь?
Из передней раздались восклицания.
– Старый приятель, узнаешь ли меня, мон-шер?
– Здравствуй, братец! какими судьбами? откуда?
И Петр Александрыч ввел за руку приехавшего господина, одетого по-дорожному. Это был давно известный читателям офицер с серебряными эполетами.[2 - См. повесть «Онагр»]
– Маменька, вот мой хороший петербургский приятель, господин Анисьев.
Слово петербургский подействовало магически на Прасковью Павловну и на ее Анеточку.
– Очень приятно иметь честь познакомиться с вами, – произнесла Прасковья Павловна, поправляя на себе платок, – извините, что вы нас застали по-домашнему, запросто.
– Помилуйте-с…
Офицер с серебряными эполетами поправлял свой хохол, протирал очки и расшаркивался. Увидев Ольгу Михайловну, он подлетел к ней с поклонами и с комплиментами.
Прасковья Павловна и Анеточка ушли и через несколько минут возвратились переодетые. Последняя навязала сырцовые букли, которыми она. всегда украшала себя в торжественные случаи.
– Ну, расскажи же, как ты здесь очутился? – спрашивал Петр Александрыч у офицера, сажая его к чайному столу.
– Неожиданно, мон-шер, совсем неожиданно. Скоро после твоего отъезда из Петербурга папенька скончался… старик, знаешь, мон-шер, последнее время все хирел…
– Боже мои, какое несчастие! – воскликнула Прасковья Павловна, всплеснув руками.
– А не хочешь ли, брат, вместо чаю – ромашки? это после дороги-то лучше, я полагаю…
– Как! ромашки? – спросила удивленная Прасковья Павловна…
– Да-с, – это у нас, маменька, технический термин; так мы называем ром с чаем.
Офицер с серебряными эполетами засмеялся, закрутил усы и сказал:
– Спасибо, мон-шер; это недурно… Mesdames, – продолжал он, – вы позволите мне закурить сигарку… Не будет ли табачный дым беспокоить вас?..
– О нет, – проговорила дочь бедных, но благородных родителей, закатывая глаза под лоб, – мы все привыкли к табачному дыму.
– Но ты все еще мне не сказал, каким образом ты здесь? – спросил Актеон, дотрогиваясь до плеча офицера.
Офицер хлебнул ромашки, пустил изо рту клуб дыма и растянулся на стуле.
– Очень просто, мон-шер, – сказал он. – Мне досталось наследство после папеньки… Надо же все осмотреть самому, принять все от управляющего… Я взял отпуск, да и катнул сюда… почти мимо тебя пришлось, мон-шер, ехать, немного в сторону; я думаю себе, как же не побывать у приятеля?.. И я бы давно у тебя был, да в Москву белокаменную, знаешь, как попадешь, – беда; с балу на бал, с обеда на обед, кавалеров-то нет, так наш брат петербургский там как сыр в масле катается… Меня на руках там носили, во всех аристократических домах принят был, мон-шер, ей-богу, как родной… Там же случился Костя… Ведь charmant jeune homme, надо отдать ему справедливость… с ним полтора месяца прожил, как один день!
– Вот что!
Актеон призадумался… Слова офицера пахнули на него былою жизнью, тем временем, когда еще он блаженствовал в коже Онагра…
– И в Москве, – продолжал офицер, – хорошеньких бездна. Я, знаешь, мон-шер, приволокнулся там за одной княжной… Она известна везде: юнъ боте… глаза такие живые, так и бегают… и она была ко мне очень благосклонна; взяла с меня честное слово на возвратном пути непременно заехать к ним.
Офицер затянулся.
– Ну, а ты что поделываешь здесь, мон-шер? а? хозяйничаешь? Славная деревенька у тебя… Офицер осмотрел кругом комнату.
– Се тре жоли… разумеется, в деревне для чего убирать великолепно комнаты?.. А говорят, в моем селе дом такой каменный, славный…
– Много, братец, тебе душ досталось?
– Душ-то немного, мон-шер; кажется, около трехсот, что-то этак, но денег бездна – это главное, папеньке все были должны; у него такие капиталы, что ужас! Хочу выйти в отставку. Съезжу в чужие краи. Надо же, мон-шер, свет посмотреть, – нельзя без этого. Какие устрицы были нынешней весной в Петербурге – чудо!.. А тебе, мон-шер, все наши кланяются…
Чай был собран… Офицер понемногу прихлебывал ромашку и болтал без умолку.
– А что, мон-шер, не вспомнить ли старинку? – вскрикнул он, вскакивая со стула, – не сыграть ли в банчик?
– Пожалуй.