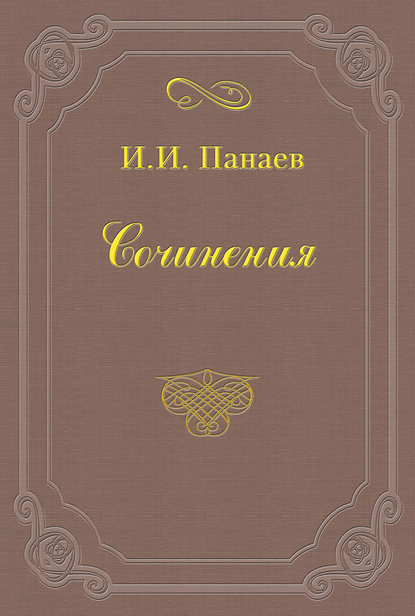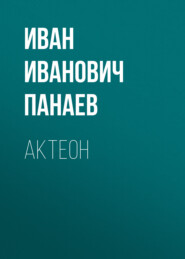По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Актеон
Автор
Год написания книги
1860
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Александрыч нахмурился. – У него денег оставалось очень немного… Он уж истратил несколько новеньких ассигнаций, – нарушив честное слово, данное им самому себе, не прикасаться ни в каком случае к этим деньгам… Что делать?
«Зачем, – подумал Петр Александрыч, – я дал ему эту проклятую записку?.. Можно было бы как-нибудь отделаться от него и не заплатить… А теперь беда!..»
– За…адумались, Петр Александрыч, – сказал Семен Никифорыч, – ва…аш ход…
– Мне, признаться, не до игры, – произнес Петр Александрыч и объяснил Семену Никифорычу причину своего беспокойства.
– Де…е…ело не шуточное!
Семен Никифорыч выпустил изо рта и из носа тучи дыма и положил на стол свой коротенький чубучок.
– У кого бы занять? – подумал вслух Петр Александрыч.
– За…нять? Мм! по…просите… у Прокофья Евдокимыча; у…у него целые по…двалы денег, в землю зарывает… ей-богу… А… а…вось даст… неровен час; он и…иным и давал…
– Маменька! – закричал Петр Александрыч, – пожалуйте к нам на совет.
– Сейчас, мой голубчик… – отвечала Прасковья Павловна, выходя из ближайшей комнаты.
– Что тебе посоветовать, мой ангел?.. Ах, Семен Никифорыч! материнскому сердцу как приятно слышать это… Он, голубчик мой (она указывала на сына), видит, что я опытнее его, желаю ему добра, он без меня ничего и не предпринимает.
– Это по…похвально, – сказал Семен Никифорыч. Петр Александрыч прочел матери письмо, полученное им, и передал ей мысль Семена Никифорыча о займе денег у Прокофья Евдокимыча.
– Нечего делать, – произнесла Прасковья Павловна, вздыхая, – надо перепробовать, дружочек, все средства… Авось этот скряга, гнусный старичишка, хоть один раз в жизни покажет себя с благородной стороны… Только советую тебе, дружочек Петенька, поезжай к нему сам. Ты этим, во-первых, сделаешь ему честь, и кто знает, может, это его тронет…
– Хорошо-с; а что, маменька, правду ведь вы говорили, что в нынешнем свете трудно найти приятелей, – так и вышло по-вашему.
Петр Александрыч смял письмо офицера в комок и бросил под стол.
– Я, друг мой, никогда не говорю пустяков… Уж я все испытала в жизни: так моим словам можно верить…
На другой день рано утром Петр Александрыч облекся в дядюшкину медвежью шубу, два исполина уложили его в пошевни, Гришка присел на облучок, кучер дернул вожжами – и лихая тройка помчала барина.
Перед ним расстилались необозримые снежные равнины, середи которых изредка чернелись деревеньки, мелькали деревья, опушенные инеем, да испуганные вороны, отряхая снег с ветвей, поднимались с карканьем, тяжело махая крыльями, и исчезали в отдалении черными точками на сером небе.
В уездном городе звонили к обедне, потому что это было воскресенье… По единственной улице города, на которой торчал неуклюжий каменный дом между разваливающимися домиками и избами, – плыли, как павы, жирные разрумяненные и расписанные мещанки в малиновых штофных телогрейках на лисьем меху; за ними выступали мужья их в синих сибирках, шли ямщики в засаленных тулупах да тащились две или три старушонки в порыжелых салопах… У калитки дома, украшенного елкою, стоял приказный, облизывая губы и несколько пошатываясь, а далее мальчишки скатывались на салазках с горки, устроенной возле самой проезжей дороги…
От села Долговки до села Карташева, в котором имел резиденцию богатый старичок, считалось с лишком верст сорок. Петр Александрыч завидел издалека цель своего путешествия. Село Карташево казалось в шесть раз более уездного города, через который он проехал, и украшалось двумя каменными церквами; это село, состоявшее из тысячи восьмисот душ, принадлежало разным помещикам. Прокофий Евдокимович был один из главных: он владел в нем восемьюстами душами. Прокатив по узкой улице, в которой избы, как во всех старинных деревнях, тесно прилеплялись одна к другой, кучер спустился на озеро, мигом поднялся на противоположный берег, повернул налево, въехал на небольшой дворик, обнесенный развалившимся забором, и остановил лошадей у крыльца.
На крыльце небольшого домика стояли с разинутыми ртами и с выпученными глазами какие-то мальчишки в серых куртках домашнего сукна.
– Дома ваш барин? – спросил у них Гришка, спрыгивая с облучка.
Мальчишки молчали.
– Эй вы, щенки! вас спрашивают. Слышите?
– Кого вам надо? – сказал один из мальчиков, почесываясь. – Тятеньку, что ли?
– Какого тятеньку! Пошел, дурак!
Гришка помог барину своему вылезть из пошевней и взбежал в сени. В сенях у двери стоял чан с водой и несколько кадочек. Он начал стучать в дверь.
– Кто там? – раздался грубый женский голос. – Чаво надо?
– Гости приехали; дома ли ваш барин?
Голос смолк, и минуты через три дверь, запертая изнутри железным засовом, заскрипела и отворилась.
– Сюда, батюшка, сюда, кормилец! – сказала баба, кланяясь Гришке. – Кто вы такие?
– Да здесь ли живет Прокофий Евдокимыч? – спросил Петр Александрыч.
– Здесь, кормилец, здесь. Палашенька, скажи барину, что гости приехали.
Баба обернулась к девочке, которая выглядывала из-за нее.
– Погоди, кормилец, погоди, вот она сейчас воротится. Барин ответ даст.
Девочка минут через пять воротилась.
– Какие гости, спрашивает барин, – запищала она.
– Какие же вы гости, батюшка? как о вас сказать? – спросила баба, смотря на Петра Александрыча и на Гришку.
– Скажи, что приехал помещик из села Долговки.
– Отколева?
– Из села Долговки, дура! – закричал Гришка.
– Долговские. Вишь!
Баба ушла.
Петр Александрыч стоял в ожидании бабы, не снимая своего медведя, потому что в передней Прокофья Евдокимыча было несравненно холоднее, чем на дворе.
– Может ли это быть?.. – послышался минут через десять слабый голос во второй комнате, – где?.. Ты врешь…
– Врешь! чаво врать? – отвечала баба. – Посмотри сам, батюшка.
Прокофий Евдокимыч в теплом, изорванном и истертом халате робко выглянул в переднюю.
– Петр Александрыч!.. – воскликнул он с видимым замешательством и замахивая полы своего халата… – Вы ли это?.. Сами беспокоились… Я не стою такой чести. Милости прошу, сударь… Извините. Лакеи мои все разбежались, а я больной… Не осудите…
Петр Александрыч снял шубу и вошел в следующую комнату.
– Сюда, сюда, – говорил старичок, пожимая одной рукой руку гостя, а другой придерживая полу своего халата. – Покорнейше прошу в гостиную… Вот так, на диванчик.