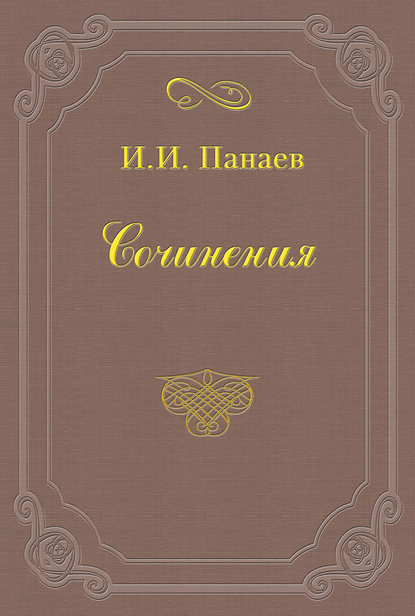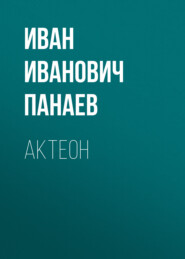По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Актеон
Автор
Год написания книги
1860
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет-с – целой губернии.
– Скажите, батюшка, лучше – всему женскому полу…
Около года Ольга Михайловна была предметом постоянного и всеобщего внимания. Только что и говорили об ней, как будто целой губернии решительно нечем и некем было заняться, кроме ее.
Только Прокофий Евдокимыч отвлек на минуту от нее всеобщее внимание: сначала продажею всех своих деревень за необычайно дорогую цену и потом своею смертию…
– Господи боже мой!.. и кому он оставил свой несметный капитал?
– Кому! – и сказать стыдно!
– Вот в чьи руки переходят дворянские денежки!
– А сколько у него, батюшки мои, щенков-то было?
– Видимо-невидимо!
– Я чай, и умер-то, греховодник, без покаяния… Говорят, у него зарыты были мешки с золотом и с серебром под избой, где он жил…
– И все это пошло прахом. А копил целую жизнь!..
– А знаете ли, что на бедной Прасковье Павловне лица нет – так мучится.
От кого?.. От чего?.. Что такое?
– Разумеется, от кого, от своей невестушки. Ей ведь известно, что все мы знаем, как та отличается. Каково же ей это сносить? Ведь она ей не чужая. Сердце-то болит!
– Как же? ведь невестка… Жаль! потеряла себя, совсем потеряла, и в таких молодых летах! Худо без правил жить…
– Нечего и жалеть об ней, признаться…
– Отчего же?
– Она всегда важничала: так и показывала всем, что из столицы приехала.
– Я прошлый год ее встретил – кланяюсь, а она хоть бы для смеху головой кивнула.
– А я спросила у нее месяца три назад: «Почем у вас, милая Ольга Михайловна, материя на платье?» Она самым сухим образом отвечала: «Не знаю-с». Уж поверю ли я, чтоб она не знала почем? Просто: не хотела отвечать.
– А меня хоть бы когда-нибудь пригласила к себе…
– Правда, что не стоит и жалеть ее!
И все решили, чтоб Ольгу Михайловну и не принимать, и не приглашать, и не говорить с ней, и не подходить к ней…
– Твое имя страдает, голубчик! – кричала Прасковья Павловна сыну. – Что ж ты не примешь никаких мер? отчего же не призовешь ее и не объяснишься с нею. Я не хочу ей ни полслова говорить… Мне сказали верные люди, что она и без того всем кричит, будто я притесняю ее, убиваю… Я ее притесняю!
Прасковья Павловна упала на стул с криком и воплем.
– Ах она, злодейка! Моя репутация ничем не запятнана… Я вот сколько лет вдовой, да про меня никто дурного слова не скажет… Я и до старости лет дожила, имя свое сохранила… А она… Да что! Я не хочу и говорить про нее… ребенок болен, плачет, а она и не заглянет к нему… Экое каменное сердце! Да если б не я, он, моя крошечка, давно б умер!..
Однако, несмотря на крики, советы и даже обмороки своей матушки, Актеон почему-то не решался говорить с своей женою, хоть явно и при всяком случае старался показывать ей свое неудовольствие. Они, впрочем, виделись редко. Он проводил целые дни с Ильею Иванычем, который забавлял его, или с Семеном Никифорычем, который играл с ним в карты, пил и ездил на охоту. Она часто по целым неделям не выходила никуда из своей комнаты. Здоровье ее незаметно, но быстро разрушалось. Она уже постоянно кашляла и чувствовала боль в груди… Крики и брань Прасковьи Павловны, раздававшиеся по всему дому, так сильно действовали на ее нервы, что в эти минуты она бросалась к своей постели и прятала голову под подушки. Только старушка няня навещала ее и приводила к ней сына.
– Что ты не лечишься, моя кормилица? – говорила няня. – Посмотри на себя, ведь ты, как свечка, таешь… Не послать ли, матушка, за лекаркою Фоминишной в село Кривухино? Я вашим лекарям-то не верю, – а она простыми травами лучше всяких лекарей ваших вылечивает от всех болезней.
Но Ольга Михайловна не хотела слышать ни о лекарках, ни о лекарях и уверяла няню, что чувствует себя совершенно здоровою.
Между тем как жена худела, муж толстел с каждым днем. Любо было смотреть на него за ужином (ужин он предпочитал обеду), когда, усевшись в кожаные дедовские кресла с высокой спинкой и с длинными ушами, он снимал салфетку с своего прибора и, сладко улыбаясь и предвкушая ожидавшие его наслаждения, торопливо засовывал ее за галстук. Против него обыкновенно садилась Прасковья Павловна, с правого боку – дочь бедных, но благородных родителей, а с левого Семен Никифорыч.
– А что, сегодня будет няня? – спрашивал Актеон, облизывая губы.
– Будет, дружочек, будет, – ответствовала маменька с нежностию. – Я сама ходила на кухню присмотреть, чтоб хорошенько приготовили ее. Ведь я знаю, мой ангел, чем тебе угодить…
Няня являлась на столе. Актеон накладывал себе полную тарелку няни и, опорожнив ее, приступал к жареному поросенку.
Удовлетворив свой аппетит и выкушав стакан мадеры, Петр Александрыч обыкновенно прислонялся к спинке кресел и отдыхал минут с пять, а иногда и более, смотря по надобности; потом он обращался к исполинам:
– А что на дворе, братцы?
И в одно время раздавалось несколько басистых голосов:
– Сиверко-с.
– Вызвездило.
– Замолаживает.
И опять наступала тишина… и Актеон приступал ко второму стакану мадеры.
При окончании одного из таких ужинов, не знаю после которого стакана мадеры, Прасковья Павловна, поменявшись сначала взглядами с Семеном Никифорычем, обратилась к сыну:
– Вот я, дружочек, – начала она, – все хотела, да как-то позабыла сказать тебе… Ты знаешь, мое сердце, что у тебя чересполосное владение по Завидовскому имению с Семеном Никифорычем? Еще покойник братец говаривал, – я как теперь помню (уж я, ты знаешь, милый мой, лгать не стану), – что он владеет совсем неправильно пятьюстами десятинами в Шмелевской даче… эта земля совсем отдельная, и по всему следует ей принадлежать Семену Никифорычу. Братец хотел и укрепить за ним эту землю…
– Точно-с, – возразил Антон, стоявший за стулом Петра Александрыча, – об этом несколько раз и при мне дяденька изволили проговаривать-с.
– Видишь ли, дружочек. И единственно только смерть помешала ему это сделать. Ты, Петенька, даром что мой сын, я могу сказать, благороднейший человек, и к тому же не захочешь тревожить дяденькина праха; ты, – я в этом уверена, – не заспоришь об этой земле с Семеном Никифорычем, да и он вовсе не такой человек, чтоб действовать обманами; ты его знаешь… У вас есть с собой план?
Прасковья Павловна обратилась к Семену Никифорычу.
– Пл…план у меня в кармане, – сказал Семен Никифорыч с сверкающими глазами.
– И прекрасно! Вот вы сами и растолкуете Петеньке, как и почему этой землей следует владеть вам.
Семен Никифорыч развернул перед Петром Александрычем трехсаженный план и, водя по нем указательным пальцем, начал объяснять, заикаясь, свои права.
Актеон долго слушал, ничего не понимая, и смотрел на план, ничего не видя.
– Да что ж, – сказал он, – пожалуй, возьмите себе эту землю…