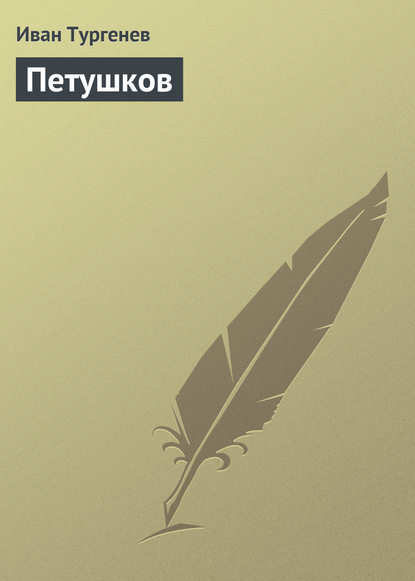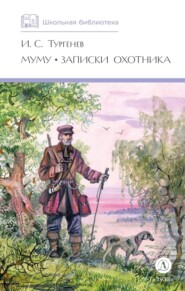По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петушков
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Восемнадцать обедов, по семи гривен за каждый: двенадцать рублей шесть гривен.
– Итак, мы расстаемся с вами, Прасковья Ивановна?
– Что ж, батюшка, делать? Такие ли бывают случаи? Двенадцать самоваров, по гривенничку…
– Но скажите хоть вы мне, Прасковья Ивановна, куда это ходила Василиса, и зачем это она…
– А я, батюшка, ее не расспрашивала… Рубль двадцать копеек серебряною монетой.
Иван Афанасьич задумался.
– Квасу и кислых щей, – продолжала Прасковья Ивановна, отделяя костяшки на счетах не указательным, а третьим пальцем, – на полтину серебром. К чаю сахару и булок на полтину серебром. Четыре картуза табаку куплено по вашему приказанию: восемь гривен серебром. Портному Куприяну Аполлонову…
Иван Афанасьич вдруг поднял голову, протянул руку и смешал кости.
– Что ж это вы, батюшка, делаете! – заговорила Прасковья Ивановна. – Али мне не верите?
– Прасковья Ивановна, – возразил Петушков, торопливо улыбаясь, – я раздумал. Я так, знаете, пошутил. Останемся-ка лучше приятелями, по-старому! Что за пустяки! Как можно нам с вами расстаться, скажите пожалуйста?
Прасковья Ивановна опустила голову и не отвечала ему.
– Ну, повздорили – и кончено, – продолжал Иван Афанасьич, похаживая по комнате, потирая руки и как бы снова вступая в прежние права. – Аминь! А вот я лучше трубочку выкурю.
Прасковья Ивановна всё не трогалась с места…
– Я вижу, вы на меня сердитесь, – сказал Петушков. – Я, может быть, вас обидел. Ну, что ж? простите великодушно.
– Какое, батюшка, обидел! Какая тут обида?.. Только уж вы, батюшка, пожалуйста, – прибавила Прасковья Ивановна, кланяясь, – не извольте больше к нам ходить.
– Как?!
– Не след нам, батюшка, с вами знаться, ваше благородие. Уж, пожалуйста, сделайте милость…
Прасковья Ивановна продолжала кланяться.
– Отчего же? – пробормотал изумленный Петушков.
– Да уж так, батюшка. Окажите божескую милость.
– Да нет, Прасковья Ивановна, надобно объясниться…
– Василиса, батюшка, вас просит. Говорит: «Благодарна, очинно благодарна и чувствую»; только уж вперед, ваше благородие, увольте.
Прасковья Ивановна чуть не в ноги поклонилась Петушкову.
– Василиса, вы говорите, меня просит не ходить?
– Именно так, батюшка, ваше благородие. Как вы сегодня изволили пожаловать, да как заговорили, что, дескать, не желаете больше посещать, то есть, нас, я так, батюшка, и обрадовалась, думаю: вот и слава богу, вот как оно ладно пришлось. А то у меня у самой язык бы не повернулся… Окажите милость, батюшка.
Петушков покраснел и побледнел почти в одно мгновенье. Прасковья Ивановна всё продолжала кланяться…
– Очень хорошо, – резко воскликнул Иван Афанасьич. – Прощайте.
Он круто повернулся и надел фуражку.
– А счетец-то, батюшка…
– Пришлите ко мне… Мой человек вам заплатит.
Петушков вышел твердой поступью из булочной и даже не оглянулся.
X
Прошли две недели. Сначала Петушков храбрился чрезвычайно, выходил, посещал своих товарищей, исключая, разумеется, Бублицына, но, несмотря на преувеличенные похвалы Онисима, чуть не сошел, наконец, с ума от тоски, ревности и скуки. Одни разговоры с Онисимом о Василисе доставляли ему некоторую отраду. Начинал разговор, «задирал» всегда Петушков; Онисим неохотно отвечал ему.
– А ведь странное дело, – говорил, например, Иван Афанасьич, лежа на диване, меж тем как Онисим, по обыкновению, стоял, прислонившись к двери, скрестив руки за спину, – как подумаешь: ну что я нашел в этой девушке? Кажется, ничего необыкновенного в ней нет. Правда, она добра. Этого нельзя у ней отнять.
– Какое добра! – с неудовольствием отвечал Онисим.
– Ну, нет, Онисим, – продолжал Петушков, – надо правду говорить. Теперь оно дело прошлое; мне теперь всё равно, но что справедливо, то справедливо. Ты ее не знаешь. Она предобрейшая. Ни одного нищего не пропустит так: хоть корку хлеба, а даст. Ну, и нрава она веселого – это тоже надобно сказать.
– Бог еще что выдумали! Где нашли веселый нрав!
– Я тебе говорю… ты ее не знаешь. И бессребренница тоже она… это тоже. Не интересанка, нечего сказать. Ну, хоть бы я ей – ничего ведь не давал, ты сам знаешь.
– Оттого-то она вас и бросила.
– Нет, не оттого! – со вздохом отвечал Петушков.
– Да вы в нее до сих пор влюбимши, – ядовито возражал Онисим. – Вы бы рады опять за прежнее.
– Вот уж это ты пустяки сказал. Нет, брат, ты меня тоже, видно, не знаешь. Меня же прогнали, да я же пойду кланяться. Нет, извини. Нет, я тебе говорю, поверь мне, это всё теперь дело прошлое.
– Дай бог! дай бог!
– Но почему ж мне теперь и не отдать ей справедливости, наконец? Ну, что ж, я скажу, что она собой нехороша, – ну кто ж мне поверит?
– Вот нашли красавицу!
– Ну, найди мне, – ну, назови кого-нибудь лучше ее…
– Ну, так пойдите к ней опять!..
– Эка! Да я разве для того это говорю, что ли? Ты меня пойми…
– Ох! понимаю я вас, – с тяжелым вздохом отвечал Онисим.
Прошла еще неделя. Петушков перестал даже разговаривать с своим Онисимом, перестал выходить. С утра до вечера лежал он на диване, закинув руки за голову. Стал он худеть и бледнеть, ел неохотно и торопливо, трубки вовсе не курил. Онисим только головой покачивал, глядя на него.