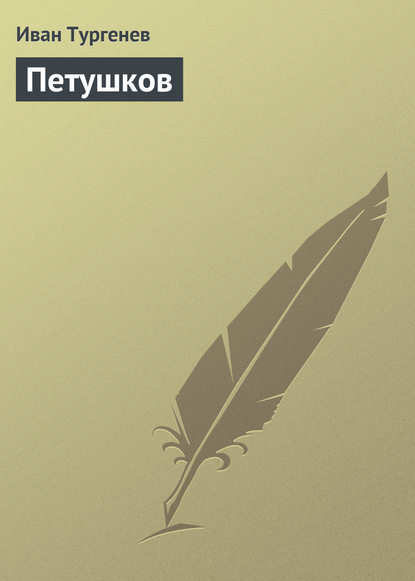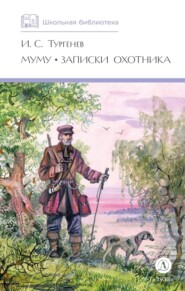По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петушков
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, чему ты смеешься, глупая?
Василиса заливалась пуще прежнего.
– Смейся, смейся, – ворчал Петушков сквозь зубы.
Василиса взялась за бока, заохала.
– Да чему ты, сумасшедшая?
Но Василиса только руками махала. Иван Афанасьич схватил фуражку и выбежал из дому. Быстро, неровными шагами шел он по городу, шел, шел и очутился у заставы. Вдоль улицы вдруг застучали колеса, затопали лошади… Кто-то кликнул его по имени. Он поднял голову и увидал просторную старинную линейку. В линейке, лицом к нему, сидел г. Бублицын между двумя девицами, дочерями господина Тютюрёва. Обе девицы были одеты совершенно одинаково, как бы в ознаменование их неразрывной дружбы; обе улыбались задумчиво, но приятно, и томно наклоняли головки набок. На другой стороне линейки виднелась широкая соломенная шляпа почтенного господина Тютюрёва и отчасти представлялся взорам его полный и круглый затылок; рядом с его соломенной шляпой возвышался чепец его супруги. Самое положение обоих родителей служило явным доказательством их искреннего благоволения и доверенности к молодому Бублицыну. И молодой Бублицын, видимо, чувствовал и ценил их лестную доверенность. Конечно, он сидел непринужденно, непринужденно разговаривал и смеялся; но в самой развязности его обращения замечалась нежная, трогательная почтительность. А девицы Тютюрёвы? Трудно выразить словами всё, что внимательный взор наблюдателя открывал в чертах обеих сестриц. Благонравие и кротость, и скромная веселость, грустное понимание жизни и непоколебимая вера в самих себя, в высокое и прекрасное призвание человека на земле, приличное внимание к юному собеседнику, по дарованиям умственным, может быть, не вполне им равному, но по сердечным свойствам совершенно достойному снисхожденья… вот какие качества и чувства изображались в это время на лицах девиц Тютюрёвых. Бублицын кликнул Ивана Афанасьича по имени так, без всякой причины, от избытка внутреннего довольства; поклонился ему чрезвычайно дружелюбно и приветливо; сами девицы Тютюрёвы поглядели на него ласково и кротко, как на человека, с которым они бы не прочь даже познакомиться… Маленькой рысцой пробежали добрые, сытые, «мирные лошадки мимо Ивана Афанасьича; плавно покатилась линейка, по широкой дороге, разнося добродушный девический смех; в последний раз мелькнула шляпа г-на Тютюрёва; пристяжные закинули головы набок, щепотко запрыгали по короткой зеленой травке… кучер засвистал одобрительно и бережно; линейка исчезла за ракитами.
Долго простоял на месте бедный Петушков.
– Сирота я, сирота казанская, – прошептал он наконец…
Оборванный мальчишка остановился перед ним, робко посмотрел на него, протянул руку…
– Христа ради, барин хороший.
Петушков достал грош.
– На тебе на твое сиротство, – проговорил он через силу и пошел опять в булочную. На пороге Василисиной комнатки остановился Иван Афанасьич.
«Вот, – подумал он, – вот с кем я знаюсь! Вот оно, мое семейство! вот оно!.. И тут Бублицын и там Бублицын».
Василиса сидела к нему спиной и, беззаботно попевая, разматывала нитки; платье на ней было ситцевое, полинялое; волосы она заплела кое-как… В комнате, невыносимо жаркой, пахло периной, старыми тряпками; кой-где по стенам проворно мчались рыжие, щеголеватые прусаки; на дряхлом комоде, с дырочками вместо замков, лежал, подле разбитой банки, стоптанный женский башмак… На полу еще валялась поэма Козлова… Петушков покачал головой, скрестил руки и вышел. Он был обижен.
Дома он приказал подать себе одеться. Онисим поплелся за сюртуком. Петушкову весьма хотелось вызвать Онисима на разговор, но Онисим молчал угрюмо. Наконец Иван Афанасьич не вытерпел:
– Что ж ты меня не спрашиваешь, куда я иду?
– А на что мне знать, куда вы идете?
– Как на что? Ну, придет кто-нибудь за нужным делом, спросит: где, мол, дескать, Иван Афанасьич? А ты ему и скажешь: Иван Афанасьич туда-то пошел.
– За нужным делом… Да кто к вам за нужным делом-то ходит?
– Вот ты опять начинаешь грубить? Ведь вот опять?
Онисим отвернулся и принялся чистить сюртук.
– Право, Онисим, ты человек пренеприятный.
Онисим исподлобья поглядел на барина.
– И всегда ты так. Вот уж именно всегда.
Онисим улыбнулся.
– Да на что мне у вас спрашивать, Иван Афанасьич, куда вы идете? Как будто я не знаю? К булочнице!
– А вот и вздор! вот и соврал! Совсем не к ней. Я к булочнице больше ходить не намерен.
Онисим прищурился и тряхнул веником. Петушков ожидал одобренья; но слуга его безмолвствовал.
– Не годится, – продолжал строгим голосом Петушков, – неприлично… Ну, говори же ты, что ты думаешь?
– Что мне думать? Ваша воля. Что мне думать?
Петушков надел сюртук. «Не верит мне, бестия», – подумал он про себя.
Он вышел из дому, но ни к кому не зашел. Походил по улицам. Обратил внимание на заходящее солнце. Наконец, часу в девятом воротился домой. Он улыбался; он беспрестанно пожимал плечами, как бы дивясь своей глупости. «Ведь вот, – думал он, – что значит твердая воля…»
На другой день Петушков встал довольно поздно. Ночь он провел не совсем хорошо, до самого вечера не выходил никуда и скучал страшно. Перечел Петушков все свои книжонки, вслух похвалил одну повесть в «Библиотеке для чтения». Ложась спать, велел Онисиму подать себе трубку. Онисим вручил ему предрянной чубучок. Петушков начал курить; чубучок захрипел, как запаленная лошадь.
– Что за гадость! – воскликнул Иван Афанасьич, – где же моя черешневая трубка?
– А в булочной, – спокойно возразил Онисим. Петушков судорожно моргнул глазами.
– Что ж, прикажете сходить?
– Ну, не нужно; ты не ходи… не нужно; не ходи, слышишь?
– Слушаю-с.
Ночь прошла кое-как. Утром Онисим, по обыкновению, подал Петушкову на тарелке с синими цветочками белую, свежую булку. Иван Афанасьич посмотрел в окно и спросил Онисима:
– Ты ходил в булочную?
– Кому ж ходить, коли не мне?
– А!
Петушков углубился в размышление.
– Скажи, пожалуйста, ты там видел кого-нибудь?
– Известно, видел.
– Кого же ты там видел, например?
– Да известно кого: Василису.
Иван Афанасьич умолк. Онисим убрал со стола и уже вышел было из комнаты…
– Онисим, – слабо воскликнул Петушков.
– Чего изволите?