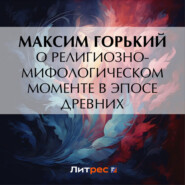По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я часика через два-три и перееду…
– Пожалуйте. Я рада такому постояльцу, – вы, кажется, весёлый…
– Не очень… – усмехаясь, сказал Лунёв.
Он вышел на улицу улыбаясь, с приятным чувством в груди. Ему нравилась и комната, оклеенная голубыми обоями, и маленькая, бойкая женщина. Но почему-то особенно приятным казалось ему именно то, что он будет жить на квартире околоточного. В этом он чувствовал что-то смешное, задорное и, пожалуй, опасное для него. Ему нужно было навестить Якова; он нанял извозчика, уселся в пролётку и стал думать – как ему поступить с деньгами, куда теперь спрятать их?..
Когда он приехал в больницу, оказалось, что Якова только что купали в ванне и теперь он спит. Илья остановился в коридоре у окна, не зная, что ему делать, – уйти или подождать, когда товарищ проснётся. Мимо, тихо шлёпая туфлями, проходили один за другим больные в жёлтых халатах, поглядывая на него скучающими глазами; со звуками их тихого говора сливались чьи-то стоны, долетавшие издали… Гулкое эхо разносило звуки по длинной трубе коридора… Казалось, что в пахучем воздухе больницы невидимо, бесшумно летает кто-то, вздыхая и тоскуя… Илье захотелось уйти из этих жёлтых стен… Но один из больных шагнул к Илье и, протягивая руку, сказал негромко:
– Здравствуй!..
Лунёв поднял глаза на него и отшатнулся, изумлённый…
– Павел!.. И ты здесь?
– А кто ещё? – быстро спросил Павел.
Лицо у него было какое-то серое, глаза смущённо и тревожно мигали… Илья кратко рассказал ему о Якове и воскликнул:
– Как тебя перевернуло!
Павел вздохнул; губы у него вздрогнули; как виноватый в чём-то, низко опустив голову, он хриплым шёпотом повторил:
– Перевернуло…
– Что у тебя? – участливо спросил Лунёв.
– Ну… Будто не знаешь…
Павел мельком взглянул в лицо товарища и снова опустил голову.
– Заразился?
– Конечно…
– Неужто от Веры?
– От кого же? – угрюмо ответил Павел.
Илья тряхнул головой.
– Вот и я когда-нибудь тоже влечу…
Павел, доверчиво глядя в глаза ему, сказал:
– Я думал – ты побрезгуешь теперь мной… Шатаюсь тут, вдруг вижу – ты!.. Стыдно стало… отвернулся, прошёл мимо…
– Умён! – с укором сказал Илья.
– Кто тебя знает, как взглянешь? Болезнь поганая… Вторую неделю здесь торчу… Такая тоска, такая мука!.. Ночью – словно на углях жаришься… Время тянется, как волос по молоку… И как будто в трясину тебя засасывает, и некого крикнуть на помочь…
Он говорил почти шёпотом, а лицо у него вздрагивало, руки судорожно мяли полы халата.
– А Вера где? – задумчиво спросил Илья.
– Чёрт её знает, – с горькой усмешкой сказал Грачев.
– Не ходит?
– Приходила раз – я выгнал… Видеть я её не могу! – зло прошептал Павел.
Илья укоризненно взглянул на его искажённое лицо и сказал:
– Ну, это ты ерунду порешь!.. Коли хочешь справедливости, так и сам будь справедлив. Чем она виновата?
– А кого мне винить? – вполголоса горячо воскликнул Павел. – Кого? Я ночи напролёт думаю – отчего моя жизнь скомкалась? Оттого, что я Веру полюбил, да?.. Про мою к ней любовь – в небе звёздами не напишешь!..
Глаза Павла покраснели, из них тяжело выкатились две большие слезы. Он смахнул их со щёк рукавом халата.
– Всё это пустые слова… – сказал Лунёв, чувствуя, что ему Веру жалко больше, чем Павла. – Ты мёд пил – хвалил: силён! – напился – ругаешь: хмелён!.. А каково ей? Ведь и её заразили?
– И её! – сказал Павел и дрогнувшим голосом спросил. – А ты думаешь, не жалко мне её? Я её выгнал… И, как пошла она… как заплакала… так тихо заплакала, так горько, – сердце у меня кровью облилось… Сам бы заплакал, да кирпичи у меня тогда в душе были… И задумался я тогда надо всем этим… Эх, Илья! Нет нам жизни…
– Да-а! – протянул Лунёв, странно улыбаясь. – Творится что-то… мудрёное! Давит всех и давит. Якову отец житья не даёт, Машутку замуж за старого чёрта сунули, ты вот…
Он вдруг тихонько засмеялся и сказал, понизив голос:
– Одному мне везёт! Как о чём подумаю – пожалуйте, готово!
– Нехорошо ты говоришь, – пытливо глядя на него, сказал Павел, – смеёшься, что ли?
– Нет, кто-то другой смеётся! Надо всеми нами смеётся кто-то… Гляжу я в жизнь – нет в ней справедливости…
– Я тоже вижу это! – тихо, но как-то всей грудью воскликнул Павел.
На лице его вспыхнули красные пятна, а глаза его засверкали живо и бойко, как, бывало, у здорового.
Они стояли в полутёмном углу коридора, у окна, стёкла которого были закрашены жёлтой краской, и здесь, плотно прижавшись к стене, горячо говорили, на лету ловя мысли друг друга. Откуда-то издали доносился протяжный стон, похожий на гудение струны, которую кто-то задевает через равные промежутки времени, а она вздрагивает и звучит безнадёжно, точно зная, что нигде нет живого сердца, способного успокоить её болезненную дрожь. Павел горел от сознания обиды, нанесённой ему тяжёлой рукой жизни; он тоже, как струна, вздрагивал от возбуждения и торопливо, бессвязно шептал товарищу свои жалобы и догадки. А Илья чувствовал, что слова Павла точно искры высекают из его сердца, они зажгли в его груди то тёмное и противоречивое, что всегда беспокоило его. Он чувствовал, что на месте его недоумения пред жизнью вспыхнуло что-то иное, что вот-вот осветит мрак его души и успокоит её навсегда.
– Почему, ежели ты сыт – ты свят, ежели ты учён – прав? – шептал Павел, стоя против Ильи, сердце к сердцу. И оглядывался по сторонам, точно чувствуя близость врага, который скомкал жизнь его.
– Кто слова наши поймёт? – сурово воскликнул Илья.
– Да! С кем говорить?
Павел замолчал. Лунёв задумчиво посмотрел в глубь коридора. Теперь, когда они замолчали, стон раздался слышнее. Должно быть, чья-то большая и сильная грудь стонала и велика была её боль…
– Ты всё с Олимпиадой? – спросил Павел у Лунёва.
– Пожалуйте. Я рада такому постояльцу, – вы, кажется, весёлый…
– Не очень… – усмехаясь, сказал Лунёв.
Он вышел на улицу улыбаясь, с приятным чувством в груди. Ему нравилась и комната, оклеенная голубыми обоями, и маленькая, бойкая женщина. Но почему-то особенно приятным казалось ему именно то, что он будет жить на квартире околоточного. В этом он чувствовал что-то смешное, задорное и, пожалуй, опасное для него. Ему нужно было навестить Якова; он нанял извозчика, уселся в пролётку и стал думать – как ему поступить с деньгами, куда теперь спрятать их?..
Когда он приехал в больницу, оказалось, что Якова только что купали в ванне и теперь он спит. Илья остановился в коридоре у окна, не зная, что ему делать, – уйти или подождать, когда товарищ проснётся. Мимо, тихо шлёпая туфлями, проходили один за другим больные в жёлтых халатах, поглядывая на него скучающими глазами; со звуками их тихого говора сливались чьи-то стоны, долетавшие издали… Гулкое эхо разносило звуки по длинной трубе коридора… Казалось, что в пахучем воздухе больницы невидимо, бесшумно летает кто-то, вздыхая и тоскуя… Илье захотелось уйти из этих жёлтых стен… Но один из больных шагнул к Илье и, протягивая руку, сказал негромко:
– Здравствуй!..
Лунёв поднял глаза на него и отшатнулся, изумлённый…
– Павел!.. И ты здесь?
– А кто ещё? – быстро спросил Павел.
Лицо у него было какое-то серое, глаза смущённо и тревожно мигали… Илья кратко рассказал ему о Якове и воскликнул:
– Как тебя перевернуло!
Павел вздохнул; губы у него вздрогнули; как виноватый в чём-то, низко опустив голову, он хриплым шёпотом повторил:
– Перевернуло…
– Что у тебя? – участливо спросил Лунёв.
– Ну… Будто не знаешь…
Павел мельком взглянул в лицо товарища и снова опустил голову.
– Заразился?
– Конечно…
– Неужто от Веры?
– От кого же? – угрюмо ответил Павел.
Илья тряхнул головой.
– Вот и я когда-нибудь тоже влечу…
Павел, доверчиво глядя в глаза ему, сказал:
– Я думал – ты побрезгуешь теперь мной… Шатаюсь тут, вдруг вижу – ты!.. Стыдно стало… отвернулся, прошёл мимо…
– Умён! – с укором сказал Илья.
– Кто тебя знает, как взглянешь? Болезнь поганая… Вторую неделю здесь торчу… Такая тоска, такая мука!.. Ночью – словно на углях жаришься… Время тянется, как волос по молоку… И как будто в трясину тебя засасывает, и некого крикнуть на помочь…
Он говорил почти шёпотом, а лицо у него вздрагивало, руки судорожно мяли полы халата.
– А Вера где? – задумчиво спросил Илья.
– Чёрт её знает, – с горькой усмешкой сказал Грачев.
– Не ходит?
– Приходила раз – я выгнал… Видеть я её не могу! – зло прошептал Павел.
Илья укоризненно взглянул на его искажённое лицо и сказал:
– Ну, это ты ерунду порешь!.. Коли хочешь справедливости, так и сам будь справедлив. Чем она виновата?
– А кого мне винить? – вполголоса горячо воскликнул Павел. – Кого? Я ночи напролёт думаю – отчего моя жизнь скомкалась? Оттого, что я Веру полюбил, да?.. Про мою к ней любовь – в небе звёздами не напишешь!..
Глаза Павла покраснели, из них тяжело выкатились две большие слезы. Он смахнул их со щёк рукавом халата.
– Всё это пустые слова… – сказал Лунёв, чувствуя, что ему Веру жалко больше, чем Павла. – Ты мёд пил – хвалил: силён! – напился – ругаешь: хмелён!.. А каково ей? Ведь и её заразили?
– И её! – сказал Павел и дрогнувшим голосом спросил. – А ты думаешь, не жалко мне её? Я её выгнал… И, как пошла она… как заплакала… так тихо заплакала, так горько, – сердце у меня кровью облилось… Сам бы заплакал, да кирпичи у меня тогда в душе были… И задумался я тогда надо всем этим… Эх, Илья! Нет нам жизни…
– Да-а! – протянул Лунёв, странно улыбаясь. – Творится что-то… мудрёное! Давит всех и давит. Якову отец житья не даёт, Машутку замуж за старого чёрта сунули, ты вот…
Он вдруг тихонько засмеялся и сказал, понизив голос:
– Одному мне везёт! Как о чём подумаю – пожалуйте, готово!
– Нехорошо ты говоришь, – пытливо глядя на него, сказал Павел, – смеёшься, что ли?
– Нет, кто-то другой смеётся! Надо всеми нами смеётся кто-то… Гляжу я в жизнь – нет в ней справедливости…
– Я тоже вижу это! – тихо, но как-то всей грудью воскликнул Павел.
На лице его вспыхнули красные пятна, а глаза его засверкали живо и бойко, как, бывало, у здорового.
Они стояли в полутёмном углу коридора, у окна, стёкла которого были закрашены жёлтой краской, и здесь, плотно прижавшись к стене, горячо говорили, на лету ловя мысли друг друга. Откуда-то издали доносился протяжный стон, похожий на гудение струны, которую кто-то задевает через равные промежутки времени, а она вздрагивает и звучит безнадёжно, точно зная, что нигде нет живого сердца, способного успокоить её болезненную дрожь. Павел горел от сознания обиды, нанесённой ему тяжёлой рукой жизни; он тоже, как струна, вздрагивал от возбуждения и торопливо, бессвязно шептал товарищу свои жалобы и догадки. А Илья чувствовал, что слова Павла точно искры высекают из его сердца, они зажгли в его груди то тёмное и противоречивое, что всегда беспокоило его. Он чувствовал, что на месте его недоумения пред жизнью вспыхнуло что-то иное, что вот-вот осветит мрак его души и успокоит её навсегда.
– Почему, ежели ты сыт – ты свят, ежели ты учён – прав? – шептал Павел, стоя против Ильи, сердце к сердцу. И оглядывался по сторонам, точно чувствуя близость врага, который скомкал жизнь его.
– Кто слова наши поймёт? – сурово воскликнул Илья.
– Да! С кем говорить?
Павел замолчал. Лунёв задумчиво посмотрел в глубь коридора. Теперь, когда они замолчали, стон раздался слышнее. Должно быть, чья-то большая и сильная грудь стонала и велика была её боль…
– Ты всё с Олимпиадой? – спросил Павел у Лунёва.