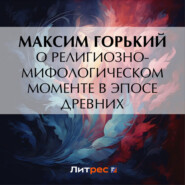По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, живу! – усмехаясь, ответил Илья. – Знаешь, – усмехаясь, продолжал он, сильно понизив голос, – Яков дочитался до того, что в боге сомневается…
Павел взглянул на него и неопределённым тоном спросил:
– Ну?
– Нашёл такую книгу… А ты как насчёт этого?
– Я, видишь ли… – задумчиво и тихо сказал Павел, – я как-то так… в церковь не хожу…
– А я – много думаю… И не могу я понять, как бог терпит?
Снова между ними завязался быстрый разговор. Увлечённые им, они проговорили до поры, пока к ним подошёл служитель и строго спросил Лунёва:
– Ты что тут прячешься, а?
– Я не прячусь… – сказал Илья.
– А ты не видишь, что все посетители ушли?
– Стало быть, не видал… Прощай, Павел. К Якову-то зайди…
– Но-но – пошёл! – крикнул служитель.
– Приходи скорее… – попросил Грачёв.
На улице Лунёв задумался о судьбе своих товарищей. Он видел, что ему лучше всех живётся. Но это сознание не вызвало в нём приятного чувства. Он только усмехнулся и подозрительно посмотрел вокруг…
На новой квартире он зажил спокойно, и его очень заинтересовали хозяева. Хозяйку звали Татьяна Власьевна. Весёлая и разговорчивая, она через несколько дней после того, как Лунёв поселился в голубой комнатке, подробно рассказала ему весь строй своей жизни.
Утром, когда Илья пил чай в своей комнате, она в переднике, с засученными по локоть рукавами, порхала по кухне и, заглядывая в дверь к нему, оживлённо говорила:
– Мы с мужем люди небогатые, но образованные. Я училась в прогимназии, а он в кадетском корпусе, хотя и не кончил… Но мы хотим быть богатыми и будем… Детей у нас нет, а дети – это самый главный расход. Я сама стряпаю, сама хожу на базар, а для чёрной работы нанимаю девочку за полтора рубля в месяц и чтобы она жила дома. Вы знаете, сколько я делаю экономии?
Она становилась в дверях и, встряхивая кудерьками, по пальцам высчитывала:
– Кухарка – жалованья три рубля, да прокормить её надо – семь, – десять!.. Украдёт она в месяц на три рубля – тринадцать! Комнату её сдаю вам – восемнадцать! Вот сколько стоит кухарка!.. Затем: я всё покупаю оптом: масла – полпуда, муки – мешок, сахару – голову и так далее… На всём этом я выигрываю рублей двенадцать… Тридцать рублей! Если бы я служила где-нибудь, – в полиции, на телеграфе, – я работала бы на кухарку… А теперь я – ничего не стою для мужа и горжусь этим! Вот как надо жить, молодой человек! Учитесь…
Она плутовато смотрела в лицо Ильи бойкими глазами, он улыбался ей. Она нравилась ему и возбуждала в нём чувство уважения. Утром, когда он просыпался, она уже сновала по кухне, вместе с рябой и молчаливой девочкой-подростком, смотревшей на неё и на всё пугливыми, бесцветными глазами. Вечером, когда он приходил домой, она, тоненькая, чистенькая, с улыбкой отпирала ему дверь, и от неё пахло чем-то приятным. Если муж её был дома, он играл на гитаре, а она подпевала ему звонким голосом, или они садились играть в карты – в дурачки на поцелуи. Илье в его комнате было слышно всё: и говор струн, то весёлый, то чувствительный, и шлёпанье карт, и чмоканье губ. Квартира состояла из двух комнат – спальни и ещё одной, смежной с комнатой Ильи: она служила супругам и столовой и гостиной, в ней они проводили свои вечера… По утрам в этой комнате раздавались звонкие птичьи голоса: тенькала синица, вперебой друг перед другом, точно споря, пели чиж и щеглёнок, старчески важно бормотал и скрипел снегирь, а порой в эти громкие голоса вливалась задумчивая и тихая песенка коноплянки.
Муж Татьяны, Кирик Никодимович Автономов, был человек лет двадцати шести, высокий, полный, с большим носом и чёрными зубами. Его добродушное лицо усеяно угрями, бесцветные глаза смотрели на всё с невозмутимым спокойствием. Коротко остриженные светлые волосы стояли на его голове щёткой, и во всей грузной фигуре Автономова было что-то неуклюжее и смешное. Двигался он тяжело и с первой же встречи почему-то спросил Илью:
– Ты птиц певчих любишь?
– Люблю…
– Ловишь?
– Нет… – удивлённо глядя на околоточного, ответил Илья.
Тот наморщил нос, подумал и спросил ещё:
– А ловил?
– И не ловил…
– Никогда?
– Никогда…
Тут Кирик Автономов снисходительно улыбнулся и сказал:
– Значит, ты их не любишь, если не ловил… А я ловил, даже за это из корпуса был исключён… И теперь стал бы ловить, но не хочу компрометироваться в глазах начальства. Потому что хотя любовь к певчим птицам – и благородная страсть, но ловля их – забава, недостойная солидного человека… Будучи на твоём месте, я бы ловил чижиков – непременно! Весёлая птичка… Это именно про чижа сказано: птичка божия…
Автономов говорил и мечтательными глазами смотрел и лицо Ильи, а Лунёв, слушая его, чувствовал себя неловко. Ему показалось, что околоточный говорит о ловле птиц иносказательно, что он намекает на что-то. Но водянистые глаза Автономова успокоили его; он решил, что околоточный – человек не хитрый, вежливо улыбнулся и промолчал в ответ на слова Кирика. Тому, очевидно, понравилось скромное молчание и серьёзное лицо постояльца, он улыбнулся и предложил:
– Вечером приходи к нам чай пить… Приходи без стеснения… в карты поиграем, в дурачки… Гости к нам ходят редко. Принимать гостей – приятно, но их надо угощать, а это – неприятно, потому что дорого.
Чем более присматривался Илья к благополучной жизни своих хозяев, тем более нравились они ему. Всё у них было чисто, крепко, всё делалось спокойно, и они, видимо, любили друг друга. Маленькая, бойкая женщина была похожа на весёлую синицу, её муж – на неповоротливого снегиря, в квартире уютно, как в птичьем гнезде. По вечерам, сидя у себя, Лунёв прислушивался к разговору хозяев и думал:
«Вот как надо жить…»
И, вздыхая от зависти, он всё сильнее мечтал о времени, когда откроет свою лавочку, у него будет маленькая, чистая комната, он заведёт себе птиц и будет жить один, тихо, спокойно, как во сне… За стеной Татьяна Власьевна рассказывала мужу, что она купила на базаре, сколько истратила и сколько сберегла, а её муж глухо посмеивался и хвалил её:
– Ах ты, умница! Ну, дай поцелую…
Он рассказывал жене о происшествиях в городе, о протоколах, составленных им, о том, что сказал ему полицеймейстер или другой начальник… Говорили о возможности повышения по службе, обсуждали вопрос, понадобится ли вместе с повышением переменить квартиру.
Илья слушал, и вдруг его охватывала непонятная, тяжёлая скука. Становилось душно в маленькой голубой комнате, он беспокойно осматривал её, как бы отыскивая причину скуки, и, чувствуя, что не может больше выносить тяжести в груди, уходил к Олимпиаде или гулял по улицам.
Олимпиада относилась к нему всё более требовательно и ревниво, всё чаще он ссорился с ней. Во время ссор она никогда не вспоминала об убийстве Полуэктова, но в хорошие минуты по прежнему уговаривала Илью забыть про это. Лунёв удивлялся её сдержанности и как-то раз после ссоры спросил её:
– Липа! Почему ты, когда ругаешься, про старика ни словом не помянешь?
Она ответила, не задумываясь:
– А потому, что это дело не моё, да и не твоё. Коли тебя не нашли – значит, так ему и надо было. Душить его тебе надобности не было, – ты сам говоришь. Значит, он через тебя наказан…
Илья недоверчиво засмеялся.
– Что ты? – спросила женщина.
– Та-ак… Я подумал, что, коли человек неглуп – он обязательно жулик… Всё может оправдать… И обвинить всё может…
– Не пойму тебя, – сказала Олимпиада, качая головой.
– Чего не понимать? – спросил Илья, вздохнув и пожимая плечами. – Просто. Я говорю: поставь ты мне в жизни такое, что всегда бы незыблемо стояло; найди такое, что ни один бы самоумнейший человек ни обвинить, ни оправдать не мог… Найди такое! Не найдёшь… Нет такого предмета в жизни…
После одной ссоры Илья, дня четыре не ходивший к Олимпиаде, получил от неё письмо… Она писала:
Павел взглянул на него и неопределённым тоном спросил:
– Ну?
– Нашёл такую книгу… А ты как насчёт этого?
– Я, видишь ли… – задумчиво и тихо сказал Павел, – я как-то так… в церковь не хожу…
– А я – много думаю… И не могу я понять, как бог терпит?
Снова между ними завязался быстрый разговор. Увлечённые им, они проговорили до поры, пока к ним подошёл служитель и строго спросил Лунёва:
– Ты что тут прячешься, а?
– Я не прячусь… – сказал Илья.
– А ты не видишь, что все посетители ушли?
– Стало быть, не видал… Прощай, Павел. К Якову-то зайди…
– Но-но – пошёл! – крикнул служитель.
– Приходи скорее… – попросил Грачёв.
На улице Лунёв задумался о судьбе своих товарищей. Он видел, что ему лучше всех живётся. Но это сознание не вызвало в нём приятного чувства. Он только усмехнулся и подозрительно посмотрел вокруг…
На новой квартире он зажил спокойно, и его очень заинтересовали хозяева. Хозяйку звали Татьяна Власьевна. Весёлая и разговорчивая, она через несколько дней после того, как Лунёв поселился в голубой комнатке, подробно рассказала ему весь строй своей жизни.
Утром, когда Илья пил чай в своей комнате, она в переднике, с засученными по локоть рукавами, порхала по кухне и, заглядывая в дверь к нему, оживлённо говорила:
– Мы с мужем люди небогатые, но образованные. Я училась в прогимназии, а он в кадетском корпусе, хотя и не кончил… Но мы хотим быть богатыми и будем… Детей у нас нет, а дети – это самый главный расход. Я сама стряпаю, сама хожу на базар, а для чёрной работы нанимаю девочку за полтора рубля в месяц и чтобы она жила дома. Вы знаете, сколько я делаю экономии?
Она становилась в дверях и, встряхивая кудерьками, по пальцам высчитывала:
– Кухарка – жалованья три рубля, да прокормить её надо – семь, – десять!.. Украдёт она в месяц на три рубля – тринадцать! Комнату её сдаю вам – восемнадцать! Вот сколько стоит кухарка!.. Затем: я всё покупаю оптом: масла – полпуда, муки – мешок, сахару – голову и так далее… На всём этом я выигрываю рублей двенадцать… Тридцать рублей! Если бы я служила где-нибудь, – в полиции, на телеграфе, – я работала бы на кухарку… А теперь я – ничего не стою для мужа и горжусь этим! Вот как надо жить, молодой человек! Учитесь…
Она плутовато смотрела в лицо Ильи бойкими глазами, он улыбался ей. Она нравилась ему и возбуждала в нём чувство уважения. Утром, когда он просыпался, она уже сновала по кухне, вместе с рябой и молчаливой девочкой-подростком, смотревшей на неё и на всё пугливыми, бесцветными глазами. Вечером, когда он приходил домой, она, тоненькая, чистенькая, с улыбкой отпирала ему дверь, и от неё пахло чем-то приятным. Если муж её был дома, он играл на гитаре, а она подпевала ему звонким голосом, или они садились играть в карты – в дурачки на поцелуи. Илье в его комнате было слышно всё: и говор струн, то весёлый, то чувствительный, и шлёпанье карт, и чмоканье губ. Квартира состояла из двух комнат – спальни и ещё одной, смежной с комнатой Ильи: она служила супругам и столовой и гостиной, в ней они проводили свои вечера… По утрам в этой комнате раздавались звонкие птичьи голоса: тенькала синица, вперебой друг перед другом, точно споря, пели чиж и щеглёнок, старчески важно бормотал и скрипел снегирь, а порой в эти громкие голоса вливалась задумчивая и тихая песенка коноплянки.
Муж Татьяны, Кирик Никодимович Автономов, был человек лет двадцати шести, высокий, полный, с большим носом и чёрными зубами. Его добродушное лицо усеяно угрями, бесцветные глаза смотрели на всё с невозмутимым спокойствием. Коротко остриженные светлые волосы стояли на его голове щёткой, и во всей грузной фигуре Автономова было что-то неуклюжее и смешное. Двигался он тяжело и с первой же встречи почему-то спросил Илью:
– Ты птиц певчих любишь?
– Люблю…
– Ловишь?
– Нет… – удивлённо глядя на околоточного, ответил Илья.
Тот наморщил нос, подумал и спросил ещё:
– А ловил?
– И не ловил…
– Никогда?
– Никогда…
Тут Кирик Автономов снисходительно улыбнулся и сказал:
– Значит, ты их не любишь, если не ловил… А я ловил, даже за это из корпуса был исключён… И теперь стал бы ловить, но не хочу компрометироваться в глазах начальства. Потому что хотя любовь к певчим птицам – и благородная страсть, но ловля их – забава, недостойная солидного человека… Будучи на твоём месте, я бы ловил чижиков – непременно! Весёлая птичка… Это именно про чижа сказано: птичка божия…
Автономов говорил и мечтательными глазами смотрел и лицо Ильи, а Лунёв, слушая его, чувствовал себя неловко. Ему показалось, что околоточный говорит о ловле птиц иносказательно, что он намекает на что-то. Но водянистые глаза Автономова успокоили его; он решил, что околоточный – человек не хитрый, вежливо улыбнулся и промолчал в ответ на слова Кирика. Тому, очевидно, понравилось скромное молчание и серьёзное лицо постояльца, он улыбнулся и предложил:
– Вечером приходи к нам чай пить… Приходи без стеснения… в карты поиграем, в дурачки… Гости к нам ходят редко. Принимать гостей – приятно, но их надо угощать, а это – неприятно, потому что дорого.
Чем более присматривался Илья к благополучной жизни своих хозяев, тем более нравились они ему. Всё у них было чисто, крепко, всё делалось спокойно, и они, видимо, любили друг друга. Маленькая, бойкая женщина была похожа на весёлую синицу, её муж – на неповоротливого снегиря, в квартире уютно, как в птичьем гнезде. По вечерам, сидя у себя, Лунёв прислушивался к разговору хозяев и думал:
«Вот как надо жить…»
И, вздыхая от зависти, он всё сильнее мечтал о времени, когда откроет свою лавочку, у него будет маленькая, чистая комната, он заведёт себе птиц и будет жить один, тихо, спокойно, как во сне… За стеной Татьяна Власьевна рассказывала мужу, что она купила на базаре, сколько истратила и сколько сберегла, а её муж глухо посмеивался и хвалил её:
– Ах ты, умница! Ну, дай поцелую…
Он рассказывал жене о происшествиях в городе, о протоколах, составленных им, о том, что сказал ему полицеймейстер или другой начальник… Говорили о возможности повышения по службе, обсуждали вопрос, понадобится ли вместе с повышением переменить квартиру.
Илья слушал, и вдруг его охватывала непонятная, тяжёлая скука. Становилось душно в маленькой голубой комнате, он беспокойно осматривал её, как бы отыскивая причину скуки, и, чувствуя, что не может больше выносить тяжести в груди, уходил к Олимпиаде или гулял по улицам.
Олимпиада относилась к нему всё более требовательно и ревниво, всё чаще он ссорился с ней. Во время ссор она никогда не вспоминала об убийстве Полуэктова, но в хорошие минуты по прежнему уговаривала Илью забыть про это. Лунёв удивлялся её сдержанности и как-то раз после ссоры спросил её:
– Липа! Почему ты, когда ругаешься, про старика ни словом не помянешь?
Она ответила, не задумываясь:
– А потому, что это дело не моё, да и не твоё. Коли тебя не нашли – значит, так ему и надо было. Душить его тебе надобности не было, – ты сам говоришь. Значит, он через тебя наказан…
Илья недоверчиво засмеялся.
– Что ты? – спросила женщина.
– Та-ак… Я подумал, что, коли человек неглуп – он обязательно жулик… Всё может оправдать… И обвинить всё может…
– Не пойму тебя, – сказала Олимпиада, качая головой.
– Чего не понимать? – спросил Илья, вздохнув и пожимая плечами. – Просто. Я говорю: поставь ты мне в жизни такое, что всегда бы незыблемо стояло; найди такое, что ни один бы самоумнейший человек ни обвинить, ни оправдать не мог… Найди такое! Не найдёшь… Нет такого предмета в жизни…
После одной ссоры Илья, дня четыре не ходивший к Олимпиаде, получил от неё письмо… Она писала: