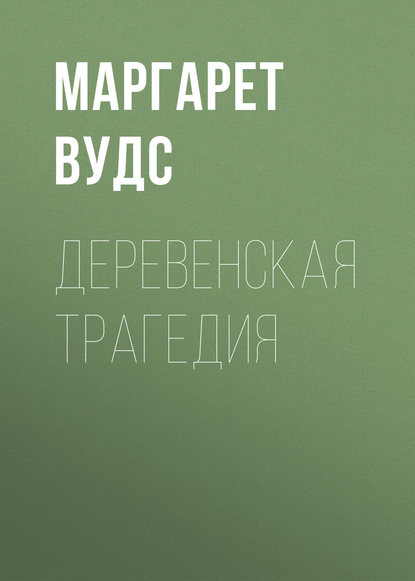По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Деревенская трагедия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Придя в себя, Анна уже не чувствовала прежней мучительной душевной боли: все окружающее опять потеряло для неё свое обычное действительное значение и приняло какое-то другое, недействительное, совершенно ей чуждое, как в ту минуту, когда она впервые узнала от Авеля о случившемся. Она дала себя вывести из станции, когда узнала, что скоро и Джеса привезут к ней. На площадке около станции стояла кучка людей, привлеченных известием о катастрофе. Молодой помощник пастора, приехавший на одном поезде с Джесом и бывший свидетелем ужасного случая, оставался все время на станции, но скорее в качестве беспомощного и слабонервного зрителя, наблюдающего издали роковые события, перед которыми он чувствует все свое бессилие. Он не был, однако, лишен доброты и сочувствия к ближним, что и побудило его при данных обстоятельствах добыть единственного существующего в Горслей извощика, на котором он и подъехал к станции в ту минуту, когда Анна выходила на крыльцо. Для робкого молодого священника запереться при данных условиях с несчастною Анной в карету и проехать с ней по бесконечно-длинной дороге до самого Гайкроса было настоящим геройским подвигом, но он сознавал, что иначе поступить не может, так как самого пастора тут не было, а оба доктора, которые ехали в экспрессе и покинули его по случаю несчастия с Джесом, решили ехать дальше с первым же поездом. Намерения бедного молодого человека были неизмеримо лучше их осуществления. Он был очень молод, только что вышел из Оксфордского университета и во всю свою жизнь не видел и не испытал никаких горестей, кроме тех, которые сопряжены были с его ученическим трудом; кроме того, он был совершенно лишен способности силой воображения понимать чужое горе, что составляет в человеке не только неоценимый нравственный, но и умственный дар. Да и что мог он сказать и что было ему делать перед действиями рока во всей его сокрушительной и беспощадной силе? Ничего, разве только повторять все избитые утешения и напоминания о воле Божией, как мог бы делать новичок в колдовстве, когда он повторяет заклинания из книги великого волшебника, тайн которого он еще не успел постигнут, и с удивлением замечает их бессилие. Анна сидела молча и не плавала; ему сделалось жутко на нее смотреть и он стал почти желать, чтобы она заплакала.
Когда они доехали до старого господского дома, полдеревни стояло уже в ожидании их на дороге, узнав от Авеля о случившемся несчастии. Молодой священник не без чувства облегчения передал ее на попечение женщины, стоящей у двери павильона. Это была мистрис Бэкер, которая отличалась не только тем, что в молодости переступила до известной степени границы, налагаемые порядком и приличием, но, кроме того, еще потеряла взрослого сына, который был выброшен из телеги и убит на месте. Такое стечение обстоятельств в её жизни, по её собственному мнению и по мнению всей деревни, как бы предопределяло ее в данном случае на роль утешительницы Анны. Действительно, и для бедной Анны было как будто менее жутко войти к себе в дом не в полном одиночестве, а чувствуя около себя поддержку сильной материнской руки. Впрочем, вряд, ли можно было ей рассчитывать на одиночество, так как в соболезновании соседей, на ряду с большою искренностью, была большая примесь любопытства и праздного интереса ко всякого рода приключениям. В оправдание всей этой кучки любопытных, один за другим появляющихся в нижней комнате павильона, надо сказать, что если бы Анна так же чувствовала и думала, как мистрис Бэкер, то для неё увидеть себя центром, всеобщего интереса и каждому вновь прибывшему сызнова передавать обо всем случившемся доставило бы, несомненно, некоторое развлечение и, если хотите, даже некоторое печальное удовлетворение. Но теперь она сидела молча, усталая, опираясь подбородком на руку, изредка глубоко вздыхая от горя и от физического изнеможения.
– Я ей приготовила чай, а она и не дотрогивается до него, – сказала мистрис Бэкер, обращаясь в кружку женщин. – Как хотите, милая, а вы должны, все-таки, выпить его; ну, проглотите его как лекарство, если хотите, хотя смею уверить вас, что чай просто прелесть какой! Не забывайте, вам не только о себе, приходится думать, моя милая, не так ли я говорю, мистрис Пайк?
– Да уж конечно, – поддержала мистрис Пайк, с участием качая головой, – надо подумать и о бедном осиротелом ребеночке.
Все женщины шумным хором присоединились к этому заявлению, причем бедное, еще не родившееся существо получило больше нежных и ласковых имен, чем, по всем вероятиям, суждено было ему услышать в течение всей его жизни. Когда же Анна послушно выпила предлагаемую чашку чая, то вокруг неё снова раздался целый хор одобрения.
– Ах, все это я испытала! – воскликнула мистрис Пайк. – Когда у меня так внезапно умер ребенок… помните, мистрис Клинкер, тот самый, крещение которого я все откладывала до получения нового платьица… как уж я горевала! Целый день так бы ничего и в рот не взяла, если бы только мужу не удалось достать для меня особенно хорошего и вкусного кролика, а он знает, что я большая охотница до кроличьего мяса; сестра сама зажарила его для меня, – у меня самой, поверите ли, не хватало сил и духу прикоснуться к печке.
– Да, да, помню, какже, так все и было, мистрис Пайк, – поддержала мистрис Клинкер, – Господи! вот уж горевали-то! А, право, странно, как подумаешь, сколько смертей приключилось в моей-то семье, и ни одной такой неожиданной, внезапной. Правда и то, что муж приходится мне двоюродным братом, значит, и наши с ним отцы да матери в таком же друг с другом родстве, так что все как бы из одной семьи, по семейному и кончают, все так и умирают помаленьку, после болезни.
Едва кончила мистрис Клинкер, как завела свой рассказ и мистрис Бекер, но обращаясь все больше к Анне:
– Никто бы не подумал, глядя на меня теперь и видя меня такою свежей и здоровой, как я-то горевала, когда лишилась бедного моего сына. Право, не солгу, если скажу, что догоревалась до того, что и подобие человеческого образа утратила и превратилась в какую-то тень. Бедный сынок! он, пожалуй, и через-чур падок был до крепких напитков, но с самых малых лет, надо отдать ему справедливость, он любил тоже и свою маму. И вот он, как теперь вижу, едет себе рысцой вниз с горы и счастлив себе, горемычный, напившись пивом, как вдруг возьми и поскользнись лошадь, да и выбрось его из телеги так, что он тут же прямо, можно сказать, и был переброшен в вечность без малейших приготовлений. Его подобрали и принесли домой на доске, но он уже был мертв, совсем мертв. Я и голоса его больше не слыхала после того, как, выходя из дому, он сказал мне на прощанье: «не жди меня к ужину, матушка, не жди», – да, так точно и сказал он… А что, успел поговорить с тобой Джес перед смертью, Анна?
Глаза всех присутствующих уставились на нее с живейшим любонытством. Все уже давно хотели расспросить ее о случившемся, но что-то во всей её фигуре затрудняло и удерживало кумушек от расспросов; она, однако, ответила мистрис Бэкер.
– Да, успел, – сказала она, слегка дрогнув.
Больше она ничего не прибавила. Наступило молчание; никто не решался на дальнейшие расспросы и каждый про себя желал, чтобы кто-нибудь другой попытался продолжать их. В эту минуту в дверях появился неожиданный для них союзник в лице мистера Соломонс, который, в качестве представителя ландлорда, сдавал внаймы павильон Джесу и которого никакие сомнения или опасения не могли остановить или удержать от каких бы то ни было вопросов.
Это был толстенький человек, туловище которого напоминало разбухшую тыкву, поддерживаемую двумя кривыми ножками. Нос его тоже напоминал тыкву, хотя и другого вида, так как она была краснолиловая и грушеобразная. Черная, совершенно новая шапочка торчала с некоторою развязностью на самой макушке его жирной, красноволосой головы и над распухшим лицом. Мистер Соломонс жил у самого подножья горы и накопил не мало денег, занимаясь делами ландлорда, разведением лошадей и ростовщичеством. В Гайкросе он занимал видное место и считался важным лицом; это не мешало ему оказывать некоторое снисхождение к окружающему крестьянскому люду, в силу которого он любил проводить свои вечера в деревенском трактире «Королевского Герба»; там, сидя на кресле, он усердно выпивал свою ежедневную порцию джина, разбавленного водой, и ораторствовал перед восхищенными слушателями, пока не наступало для него время отправляться домой, и он с трудом вваливался в свою бричку. Ему необходимо было собрать последние сведения о катастрофе, чтобы передать их во всем их животрепещущем интересе в тот же вечер своей аудитории за трубкой и стаканом; да кто, как не он, имел право без приглашения войти в этот дом? Он лишь для формы только постучал у открытой двери своею сучковатою палкой и вошел в комнату, не ожидая ответа. Затем, он сел на стул около самой двери, подперши палкой свой жирный двойной подбородок и устремив на Анну мутные, водянистые глаза.
– Ну, что, моя милая, скажите мне, как вы себя чувствуете? – спросил он. – Это великое испытание, я должен сказать, да… великое испытание.
Анна пробормотала что-то совершенно невнятным голосом.
– Я еще ничего не знаю, в сущности, о случившемся, – продолжал он, – вот я и решил добраться сюда и посмотреть, что с вами сделалось и как тут обстоят дела. Боже мой! Боже мой! да как это он умудрился попасть под поезд?
Мистрис Бэкер поспешила дать на это надлежащее объяснение. Ей было немного совестно за Анну, при виде, как мало готовности она проявляла в деле оказания любезности мистеру Соломонс. Все подробности были переданы ею с величайшею точностью, но посетитель чувствовал, насколько пикантнее было бы получить их из первого источника; так что, выслушав рассказ мистрис Бэкер, он обратился снова к Анне:
– И так, значит, вам удалось-таки с ним говорить перед смертью… это большое утешение, хотя вряд ли он мог сказать многое, бедняжка; ведь, не так ли? – Он замолчал в тщетном ожидании ответа и продолжал, бросив взгляд на её левую руку: – Во всяком случае, я вижу у вас на руке кольцо, – вот это меня радует. До меня, правда, доходили уже слухи, что он собирался жениться на вас, но я не знал, что это уже совершилось.
– Их венчание, увы! было назначено на завтрашний день, – пояснила мистрис Бэкер. – Он и поехал сегодня в Оксфорд с тем, чтобы достать кольцо: оно, верно, и попало таким образом к ней на палец.
Анна вся вспыхнула при этих словах.
– Это он сам сделал; он велел мне надеть кольцо тут же, при нем, прежде нежели… – проговорила она и запнулась.
– Перед законом, к несчастию, это, все-таки, не имеет силы, душа моя, – возразил мистер Соломонс, медленно качая головой. – Хотя он вам и сам надел кольцо, но вы, тем не менее, и сегодня такая же незаконная жена, какой были и вчера. Я вас глубоко жалею, поистине могу это сказать, и как посмотрю на вас, моя бедная красотка, еще больнее становится, но, в то же время, нельзя скрывать от вас правды.
Анна при его словах поднялась со стула. Линии, образовавшиеся между её бровями за последние два часа, выступили еще резче и глубже. Анна мрачно нахмурилась и сверкнула глазами. Мистер Соломонс принялся успокоивать ее.
– Не надо все это так принимать к сердцу, душа моя; что касается меня, то я вовсе не считаю вас хуже из-за этого. Я готов верить, что он узаконил бы ваше положение, если бы остался в живых; я против этого и не спорю. Во всяком случае, не с вами первой случился грех в начале жизни, многие из молодых девушек с этого начинали и, несмотря на это все-таки, находили себе женихов, позднее. Что вы на это скажете, мистрис Бэкер?
Мистрис Бекер молчала. Мистер Соломонс выбрал не особенно благоприятный момент для произнесения своей краткой, но не вполне приличной речи. В эту минуту среди небольшой толпы подростков, собравшейся у двери, произошло легкое смятение, кучка расступилась и на пороге появилась фигура мистрис Гэйз. При виде её, мистер Соломонс вскочил и поклонился, снимая шапочку, пробормотал что-то среднее между прощанием и приветствием, так что и разобрать нельзя было, и исчез с изумительною быстротой. Анна, вызванная к защите, все еще стояла среди комнаты, как загнанный зверь; её прежнее угнетенное состояние перешло в мрачное и тревожное возбуждение. Она, казалось, и не заметила исчезновения своего мучителя.
– Да, это мое венчальное кольцо, – говорила она, протягивая к толпе свою левую руку, – и я имею такое же право носить его, как все те, которые повенчались в церкви. Джес выразил желание, чтобы я надела и носила его. Мистрис Гэйз, вы свидетельница тому, что завтра в девять часов утра должна была произойти наша свадьба и что все было уже готово. Кажется, достаточно тяжко для меня оставаться в живых без него, но было бы уж совершенно жестоко, если бы случайный факт, что смерть постигла его сегодня, а не завтра, должен был отозваться на всей последующей жизни моей и моего ребенка.
– Да, это великая тайна и страшное наказание, – со вздохом проговорила мистрис Гэйз, снимая с себя темную вуаль. Хотя вздох был, действительно, выражением искреннего участия, но случай был слишком соблазнительный и удержаться от нравоучения она не могла.
– Да послужит это ужасное несчастие вам в назидание, друзья мои, – сказала она, обращаясь к кучке молодых девушек у дверей. – Я глубоко жалею вас, Анна Понтин, но не забывайте, что Бог наказывает любя, и примите Его наказание с покорностью.
– Может быть, я бы и приняла его, если бы оно было справедливо, – возразила непокорно Анна. – Но почему же только Джесу да мне страдать и терпеть? Поглядите на тетушку мою… разве она не виновата? А дядя, который так жестоко поступил с нами? Они продолжают жить счастливо и покойно, как ни в чем не бывало, да и многие другие еще, которые и похуже нас поступали в жизни.
При этих дерзких и богохульных словах в комнате раздался глухой ропот неодобрения; одна только мистрис Гэйз невозмутимо молчала. Она была холодная и бессердечная женщина, но до известной степени в ней проявлялись и хорошие стороны этих недостатков.
– Вот эти то великия тайны мы и не можем брать на себя смелость объяснять, – сказала она. – Впрочем, если даже допустить, что сказанное вами относительно вашего дяди и вашей тетки правда, то, может быть, и они наказаны каким-нибудь непонятным для вас путем. Однако, было бы глупо обращать теперь внимание на слова несчастной девушки… И я хотела бы знать, для чего собралась сюда вся эта праздная толпа зевак? Как не стыдно всем вам приходить сюда в такое время, болтать всякий вздор и еще более расстраивать несчастную! Нет ничего удивительного, если она доведена таким образом до исступления. Я требую, чтобы дом и сад были немедленно очищены от всяких посторонних людей, за исключением Сары Бэкер.
Не прошло и двух минут, как в старом господском доме не осталось никого, кроме мистрис Гэйз, Анны и мистрис Бэкер.
– Ну, теперь, Анна Понтин, – сказала жена пастора, – ложитесь скорее в постель, советую вам.
– А когда привезут сюда Джеса? – спросила Анна, все еще не вполне покорившаяся и дрожа еще от неулегшегося волнения. – Я не лягу, пока его не привезут.
– Нечего об этом и думать, – возразила мистрис Гэйз. – Хотя мистер Шеперд и распорядился насчет телеги, но они здесь будут только поздно вечером.
Анна больше не сопротивлялась и легла в постель, а мистрис Гэйз отправилась домой. Проходя через деревню, где все население, разбитое на кучки, высыпало на улицу, обсуждая только что случившуюся катастрофу и переходя от неё ко всем другим несчастиям, почему бы то ни было известным присутствующим, жена пастора чувствовала какое-то совершенно особенное, небывалое душевное расстройство, вроде того, какое она могла бы испытывать при виде беспорядка, произведенного у неё в доме землетрясением. Порядок, конечно, скоро будет восстановлен и завтра все будет опять стоять на месте, но в данный момент она как будто сознавала, что не все в мире может получить свое бесспорно-очевидное объяснение и оправдание, как ей до сих пор казалось.
Между тем, Анна лежала на постели в беспокойном, лихорадочном состоянии; она металась во все стороны и не громко, но жалобно стонала. Для нервного человека было бы невыносимо тягостно и больно сидеть в той же комнате, прислушиваясь к этим постоянным вздохам и непрерывному метанию; к счастию, мистрис Бекер нервов не имела. Она зажгла огонь в камине, села перед ним и слегка задремала. Около десяти часов подъехала телега, остановилась перед домом и звуки тяжелых шагов послышались в нижнем этаже. Мистрис Бэкер вскочила на ноги.
– Вот несут его, – сказала она.
Ей хотелось сойти вниз, но она боялась, что Анна последует за ней. Но, к её удивлению, Анна не выразила желания спуститься вниз даже тогда, когда люди удалились из павильона. Она лежала совершенно смирно и молчала.
– Пожалуйста, мистрис Бэкер, пойдите теперь домой, – сказала она через несколько мгновений. – Здесь я вам буду мешать спать, и, право, я не вижу, почему вам сидеть около меня целую ночь и утомлять себя.
– Господь с вами, Анна! – воскликнула мистрис Бэкер, – неужели вы думаете, что я так и оставлю вас здесь одну всю ночь с телом покойника?
– А почему же нет? Разве это не все равно? – спросила Анна, сдерживая свое нетерпение. – Я, конечно, не желаю говорить вам неприятное, но, уверяю вас, мне хотелось бы остаться одной.
– Я могу сидеть внизу, если хотите, – сказала мистрис Бэкер нетвердым голосом; но ей не особенно улыбалась перспектива просидеть всю ночь около изувеченных останков бедного Джеса.
Между ними завязался спор, в котором доводы, приводимые Анной, значительно подкреплялись привлекательными картинами: стола с горячим ужином и кровати с мягкою периной, рисовавшимися в воображении мистрис Бэкер.
– Ну, как хотите, милая, только вы – странный человек, – сказала она, наконец. – На вашем месте я бы ни за что не стерпела, чтобы меня оставили так одну. Пусть будет по-вашему, но если только ночью вам будет скверно, помните, что до моего дома не далеко! – После этого, однако, добрые чувства в мистрис Бекер снова взяли верх над эгоистическими желаниями, и она добавила, целуя Анну: – Смотрите только, душа моя, не горюйте, не плачьте всю ночь, поберегите себя и ребенка. Я знаю лучше, чем кто бы то ни было, какая это ужасная вещь, когда так умирает внезапно человек, которого любишь, и никто, кажется, так не горевал, как я, когда умер мой бедный Джим. Бог в своей милости, однако, не допускает нас до отчаяния. Вот и вы утешайте себя мыслью, что у вас родится скоро здоровый мальчуган, который будет за вас работать так же, как и отец его. Господи Боже мой! Да неужели мальчуган будет хуже оттого, что он родится не в законе? Мой покойный Джим был тоже незаконный робенок и смею уверить вас, что не было сына добрее и внимательнее к своей матери, хотя, быть может, он и питал некоторую излишнюю слабость к пиву, бедняга. Прощайте, душа моя, прощайте!
IX
Для Анны было истинным облегчением, когда дверь затворилась за достойной мистрис Бэкер и когда она, наконец, осталась одна в первый раз после поразившего ее ужасного и столь неожиданного удара. В эту же ночь ей нужно было собраться с мыслями, чтобы вникнуть в страшное событие, освоиться с ним, выяснить себе свое положение и решиться на что-нибудь; она знала, что на следующее утро она будет уже не одна, а окружена разными людьми, мистрис Гайз или кто-нибудь другой будет ею распоряжаться и потащут ее неизвестно куда, если только она сама не придет раньше к какому-нибудь ясному и определенному решению. Накинув на себя платье и взяв свечу, она пошла вниз. Она открыла дверь нижней комнаты, и свет от её свечи упал на кучу соломы и на лежащую на этой соломе груду, покрытую простыней. Чем-то невыразимо страшным веяло от этой прикрытой, длинной, белой и неподвижной фигуры. Анна подошла к ней торопливыми шагами и поспешно откинула простыню с лица умершего. Да, лицо было его, Джеса, но как бы застывшее, неподвижное и чужое; впрочем, в нем было больше спокойствия и меньше страдания, чем днем. Ей хотелось посидеть около него; она думала, что это успокоит и утешит ее, что она, таким образом, будет чувствовать себя не в таком полном одиночестве и, может быть, слезы, наконец, облегчат её горе, те самые слезы, которые в течение уже многих часов закипали у неё в груди и жгли ее точно расплавленный металл. Еще и года не было, как в ту памятную для неё бурную ночь она постучалась в эту самую дверь, и Джес вышел к ней и приютил ее у себя. Тогда она несомненно была тоже несчастна, но не так бесповоротно, как теперь. Она живо припомнила все это прошлое, каким утешением бывало для неё положить голову на плечо Джеса, поплакать и выложить ему всю свою печаль, все свои горести, вспомнила она, как неизменно добр и нежен он был с ней и в тот день, и позднее, и все время… да, все время он неизменно был таким же. Она опустила голову на мертвую грудь и зарыдала страшными, мучительными, бесслезными рыданиями.
«Бедный Джес! бедный Джес!» – шептала она. Так недавно, еще в прошлую ночь, держа ее в своих объятиях, он с радостью говорил ей о восстановлении своих сил после болезни и с любовью останавливался на мысли о выпавшем на его долю нежданном счастье, о котором он и мечтать не мог, когда был выпущен из дома призрения. И сегодня же страшною насильственною смертью он был выхвачен из этой жизни, которою он так дорожил, и должен был умереть с горькою мыслью, что оставляет ее и ребенка в таком положении, которое неминуемо приведет их в богадельню, олицетворявшую для него всякое зло. «Бедный Джес! бедный Джес!» – рыдая повторяла она, лежа на его груди и в полголоса, почти шепотом говоря ему про свою любовь и про свое горе. Но вдруг, поцеловав его в лицо, она содрогнулась от ощущения холода, который насквось проник ее; и тут она впервые заметила, что сквозь его рубаху и её собственная щека окоченела, лежа на его холодной груди. В это мгновение она почувствовала, насколько лежащий перед ней труп утратил всякую близость в ней, всякую индивидуальность, как бесчувствен и равнодушен он был к её словам, действиям, чувствам или страданиям. Перед ней лежал не Джес, а сама смерть, – тот ужас, которому нет равного на земле. Ей показалось, что было даже нечто противоестественное и святотатственное в её ласках, в её страстном выражении безысходного горя: поспешно, дрожащими руками, она набросила опять простыню и кинулась вон, без оглядки, в верхний этаж.
Когда впечатление страха улеглось в ней, она вспомнила, что уже протекла часть ночи и что ей надо подумать и придти к какому-нибудь решению. Она села в старое кресло, в то самое, в котором она спала в первую ночь, проведенную ею в павильоне. «Ни в каком случае не отдавай моего ребенка в дом призрения». Таково было последнее наложенное на нее Джесом обязательство. Каким же образом ей выполнить это? У неё оставалось еще немного денег, но так мало, что ей с трудом можно было прожить с ними до времени её родов, а там уж несомненно денег этих не хватит для покрытия дальнейших расходов, так что даже и противиться бы она не могла, если бы ее поместили на это время в больницу дома призрения. Но если бы даже таким образом она и отдала на попрание все свои чувства и поступила бы вопреки настоятельному требованию Джеса, допустив, чтобы их ребенок родился нищим в богадельне, что же, однако, останется ей делать затем? Она выйдет из больницы, имея на руках ребенка, без денег, без рекомендации, без друзей. Без друзей!.. Это была самая горькая капля в её чаше. Она тщетно искала друзей вокруг себя, – у неё не было никого, кто бы мог оказать ей действительную помощь. О дяде и тетке она и не думала, а на мистрис Гэйз если мысль её и остановилась, то ненадолго. Мэри была далеко, где-нибудь на море, на пути в Индию, и также мало могла ей помочь, как если бы уплыла на другую планету. Добрая её учительница в Лондоне вышла замуж и уехала неизвестно куда.
Для Анны было несомненным несчастием, что она родилась в другой, более высокой и менее беспечной среде, чем та, в которой ей предстояло жить, и неблагоприятность этих условий еще усложнялась для неё тем, что она была и понятливее, и развитее общего уровня своей среды. Она принадлежала собственно к тому бедному, но не вполне неимущему классу, который, в сущности, представляет из себя нечто вроде многочисленной, вечно нуждающейся, но не несчастной семьи Микоберов[1 - Тип, нарисованный Диккенсом в романе Давид Копперфильд. Перев.]. Если бы Анна была из числа таких именно представителей своего класса, то она преспокойно решилась бы жить заработком от своего шитья, даже если бы она и имела раньше случай убедиться, как мало при этом бывает застрахован человек от голода и нищеты. Но Анна не только видела все это, но успела уже проникнуться всею трудностью борьбы за существование; она знала, как тяжело женщине прокормить своего ребенка даже тогда, когда она физически здорова, крепка и находится в правильных семейных условиях, и как почти безнадежно добиться этого для женщины в её положении.