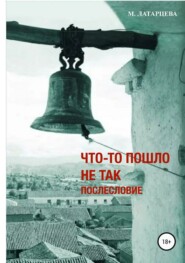По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что-то пошло не так
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Нельзя», – согласился про себя Богдан. Отсутствие связи с семьей и для него превратилось в пытку, и помочь ему никто не мог, даже врачи.
Тысячу раз он отгонял от себя навязчивую мысль, что нельзя было отсылать Наталью с девочками в Россию, тысячу раз упрекал себя, что сам пошел в военкомат, тысячу раз он каялся… Тысячу раз… Но, как говорится, все мы задним умом сильны, случилось то, что случилось, и теперь надо было думать, как с этим жить.
– А знаешь, Богдан, когда перелом произошел? Знаешь, когда мы поняли, что никому в мире не интересны судьбы нескольких миллионов человек? – Татьяна Ильинична сделала паузу, словно давая ему возможность самому определить точку невозврата Донбасса.
– Когда Америка объявила виновных в катастрофе с малайзийским самолётом, с этим Боингом. Знаешь, мы сначала не поняли, удивлялись: как так – трупы в поле лежат, человеческие тела, и никому они не нужны, никто их забирать не собирается, чтобы по обычаю похоронить, никто не опрашивает свидетелей, не проводит расследования… Вообще никто не приезжает! Наши ребята охрану выставили, поле оцепили, следили, чтобы с места крушения ничего не пропало. Оказалось, что труды их напрасны – все равно никто не приезжал. Как ты думаешь, интересны кому-нибудь чужие, если свои не нужны?
«Свои не нужны…» – как же точно сказано. Он и сам ненужным себя чувствовал, давно уже, а понял это, ещё когда работу искал. Вроде все человеку подходит – и образование его, и стаж работы, и навыки по специальности, а как услышит, что за сорок, тут же теряет интерес, будто после сорока только на кладбище дорога. После нескольких таких переговоров он основательно потерял веру в себя, почувствовал себя старой бесполезной развалиной, переживал сильно, что никому не нужный, а сейчас он ещё одно понял, понял, что, по сути, его личные переживания – ничто по сравнению с жизнью миллионов людей, загнанных в угол только за то, что осмелились быть людьми.
–…Зато обстрелы с украинской стороны не прекращались. Ни днем, ни ночью… Накрывали поле, будто плугом пахали, – женщина заметила удивленный взгляд Богдана. – Мы здесь все военными стали, с ходу определяем, откуда снаряд летит… И где взорвется, знаем. Устали мы бояться, Богдан, устали умирать. И жить в постоянном аду устали. Мои ведь все в ополчении, даже дочка с невесткой, одна я дома сижу. Володя успокаивает: «Стрелять ты, Танюша, все равно не умеешь, в разведке от тебя толку ещё меньше, так что занимайся тем, что лучше всего получается – вари борщи». Оно и понятно – повар я… Вот и варю.
Женщина погладила руку мужа:
– Я и с ним благодаря борщам познакомилась…
В это время раненый открыл глаза, повел ими по сторонам, увидел жену… На лице мужчины появилась едва заметная улыбка, и он снова уснул. У Татьяны Ильиничны заблестели глаза.
Неловко отворачиваясь, чтобы не показывать своих слез, она попросила:
– Я выйду на секунду, Богдан, хорошо? А ты посматривай, пожалуйста, за Володей, если что – зови, я враз прибегу.
Вернулась женщина с врачом. Тот осмотрел больного, что-то задумчиво пожевал, хмыкнул, почесал нос и, не сказав ни слова, ушёл.
– Ну вот, такие вот дела, – подытожила Татьяна Ильинична, тяжело вздыхая. – Человек в этом мире – гость. Будем надеяться на лучшее…
Дверь в палату опять отворилась. На этот раз доктора сопровождала медсестра. Он повторно осмотрел больного, как и прежде, немного подумал, а потом решил:
– Будет жить.
– И я так думаю – будем жить.
Последние слова произнес Владимир. Взгляды присутствующих плавно переместились на него.
– На перевязку.
И снова ожидание. Он уже не помнил, какое сейчас число, месяц, день недели, не знал, который час – его жизнь превратилась в сплошное ожидание, состоящее из мучительной надежды на встречу. И снова вспомнились дети, Наталия, и её последняя просьба: «Давай куда-нибудь уедем, дорогой, насовсем уедем. У нас дети, Богдан, им отец нужен».
Из раздумья его вывели приглушенные женские голоса, которые доносились из открытого окна, и запах сигаретного дыма. Разговаривали двое. Богдан повернул голову к окну и прислушался.
–…Я в этом году в институт поступать собиралась. Медучилище с красным дипломом закончила, учиться дальше думала. Не успела…
Голос умолк, но собеседницы не ушли – запах дыма не исчезал. После небольшой паузы другой голос произнес:
– А мне бы в Питер ещё съездить. На балет. Понимаешь, я слово маме дала… Давно… Ещё в детстве. В нашем театре гастроли другого оперного были, отец билеты взял, чтобы маме удовольствие доставить. Любил он больно её, гордился очень, что мама, образованная интеллигентка, за него, простого шахтёра, замуж вышла. Он ей книги умные покупал, в музеи возил, на концерты… Работать не разрешал, представляешь? Любил!..
И снова пауза. Богдан недоумевал, как можно во время войны думать о балете? Странно как-то получается – вокруг стреляют, людей убивают, проливается кровь, а тут о любви говорят и о детских обещаниях… Да ещё о каких обещаниях – сходить на балет! «Да, пути твои, Господи, неисповедимы».
За окном снова послышалось:
–…А я мелкой была, ничего не понимала, взяла и… уснула! Представляешь, во время первого акта уснула. Только и помню, что «Щелкунчик» ставили. Папа – ничего, даже не обиделся вовсе, так и продержал меня, спящую, на руках весь спектакль, чтобы мне удобней было. А вот мама… мама сильно огорчилась, потухла вся… Она этот балет очень сильно любила… Мечтала в Петербурге посмотреть, на главной сцене Мариинского театра, да все некогда было, откладывала… Теперь вот не попадет…
Было слышно, как женщина глубоко затянулась и глухо закашлялась.
– Её прямым попаданием… Даже не мучилась.
Богдан отвернулся к стене. Ему было не по себе. Казалось, будто он подслушал что-то очень личное, сокровенное, подсмотрел в «глазок» чужую жизнь, и сделал это намеренно. А хуже всего было понимание, что он является косвенным виновником происходящего. Возможно, не по доброй воле, но все равно виноват – из-за своего равнодушия, безразличия, нежелания понять, что нельзя сохранять нейтралитет, когда на кону – человеческая жизнь, преступно быть свидетелем убийства, даже не сделав попытки предотвратить преступление.
В последнее время ему не давала покоя мысль, что в стране существует две реальности: там, в другой Украине, не этой, жизнь по-прежнему бьет ключом – рождаются дети, учатся, женятся, и не знают, что совсем рядом, в соседней области, идёт война, что там убивают людей, обстреливают их дома, школы, больницы… Но самое страшное, что делают это сами украинцы, на своей же территории… Украинцы убивают украинцев… Убивают самих себя…
Господи, как же болит голова!.. Боже праведный, неужели нет конца этим мучениям?! Кажется, будто боль уже просверлила дырку в черепе, а сейчас подбирается к сердцу… «Спаси, Господи милосердный! Спаси и помилуй!»
Богдан сжал голову, пытаясь унять боль, но перед глазами стояли разрушенные, сожжённые дома… Он закрыл глаза, но в ушах раздавалось: «Её прямым попаданием… Даже не мучилась…» Он зарылся под одеяло, зажал руками уши, но и это не спасло его от боли. «Пресвятая Богородице, помоги! Господи Боже, спаси и сохрани!..» – молился, будто в последний раз. Невероятной силы звук оборвал его молитву.
– Снаряд?! Не мой. Может, следующий мой?
Неожиданно все отошло на второй план – боль, тревога, смятение, осталось только одно – ожидание смерти.
– Господи Боже милосердный, прими мою душу!
– Богдан, ты чего там бормочешь? Тебе плохо? Позвать сестру?
Кто-то тормошил его за плечо. «Михаил, – узнал по голосу. – Да что же они, сговорились все, что ли? Добить хотят?!»
«У-ух!» – раздалось за окном, и на землю хлынул ливень.
– Гроза. Не снаряд, гроза, – прошептал чуть слышно.
– Что ты опять шепчешь? – ворчливо спросил Михаил, доставая из сумки какой-то предмет. – Грозы испугался? Как ребёнок малый, ей богу! Чего её бояться? Это ж не снаряд тебе, не мина, да по большому счету, и к ним привыкли. Устали жить в постоянном страхе. Держи подарок. Вот только не знаю, как твои сторожа отреагируют, наверное, опять меня выгонят?
В руках Миши появился рыжий котенок. Он принюхался, фыркнул, потом уверенно прошел к Богдану и улегся ему на грудь.
– Ты смотри, вспомнил. И чем ты его взял? – удивленно хмыкнул мужчина. – Ах, да, чуть не забыл… Мне ребята телефон твой передали, так я порылся в нем немного, по-родственному, так сказать, порылся… Ты же не обижаешься на меня, правда? В телефоне я номер супруги твоей нашел и перезвонил ей на всякий случай…
Михаил достал телефон и, словно в собственном, стал искать номер.
– Знаешь, она сначала мне не поверила, думала, подстава. Еле удалось убедить её в обратном, доказать, как всё на самом деле… Да что там размусоливать – на, общайся.
Богдан осторожно, будто стеклянную, взял трубку. После нескольких вызывающих гудков из неё послышалось:
– Бодя, ты? Это ты? Ты живой?..
Не успел Богдан ничего ответить, как в телефоне раздался какой-то шум, потом глухой звук удара, и после него – звонкий голос Ксюшеньки:
– Папа, папа, и взаправду, это ты? А мама брыкнулась, то есть упала – она сознание потеряла… Наверное, от радости, что ты нашелся, папа, – продолжила дочка, как ни в чем не бывало. – Но ты не переживай, хорошо? Здесь врачи есть, много. Они ей помогут. Они всем помогают…
Ксюша продолжала что-то трещать в трубку, а он ничего не понимал. Не понимал, где сейчас его жена и дочь, не понимал, почему там врачи, и почему их много, а ещё ему не понравилось, откуда у Ксюши это «брыкнулась»… Потом телефон отключился.
– Ты не переживай за родных, Богдан, у них все нормально. Я с Натальей разговаривал давеча… Они у брата её остановились. Татьяна учебу продолжит, в Петербурге. Ксюшу в школу определили, а сама Наталья в Центре приёма беженцев работает, волонтёром пока… Думаю, с работой у неё обязательно сложится – медсестры везде на вес золота, так что сильно не переживай.