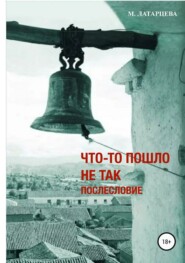По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что-то пошло не так
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Миша ещё пытался что-то расспрашивать о здоровье, рассказывать о своём, но после нескольких односложных ответов засобирался домой.
– Знаешь, Богдан, тут матушка моя тебе привет передавала, просила к нам заехать после выздоровления, поговорить… – Михаил неловко замялся. – Понимаешь, дело в том, что ты на отца больно похож, прям, как две капли воды, похож, вот матушка и хочет на тебя ещё разок взглянуть. Думаю, без расспросов здесь не обойтись – о маме твоей, о Ядвиге. Женская ревность, понимаешь ли… Ты подумай, если что… А коль отказаться вздумаешь, мы на тебя зла не будем держать, воля твоя…
Он снова упаковал в сумку Рыжика.
– Ну, выздоравливай,.. брательник. Если что – звони, я тебе номер свой вбил, найдешь там, в контактах…
Дверь палаты захлопнулась, но тут же распахнулась снова. На пороге стоял все тот же Михаил.
– И снова здравствуйте! Ты это… если надо чё, звони, не стесняйся, не чужие, однако… Мне ведь что? Да мне ничего, интересно даже – всю жизнь один, а тут – на тебе ваше с кисточкой, братан собственной персоной… Даже почти родной… Ну, так чё я говорил? А!.. Звони, это… Не стесняйся… брательник!.. Вот черт, все никак не привыкну… Надо же… Ну, я пошёл. Пока.
«Брательник», – повторил про себя Богдан. Брата у него, как и у Миши, тоже никогда не было, как, впрочем, и сестры. Единственными родственниками долгое время оставались бабушка и мама. И ещё – отец… Папа… Да, папа, но это, как оказалось, отдельная история… Потом появилась Наталья, затем – дети… Вот и все родственники – на одной руке можно сосчитать, но дело в том, что все они – свои, родные, а вот Михаил…
Михаил – чужой. Чужой по определению. Как он там говорил? «Даже почти родной»? Нет, не родной… И даже не «почти», и его появление не сулило Богдану ничего хорошего, разве только головной боли добавилось. Его другое сейчас беспокоило – как там жена с девочками. Брат Наталью не обидит, понятное дело, но у неё муж есть, дом…
Он вспомнил первую встречу с женой, свадьбу, рождение детей… Вспомнил, как у Тани прорезался первый зубик, и она смешно стучала по стенке чашки, когда пила воду… Вспомнил, как Ксюша однажды принесла домой бездомного котенка, а чтобы ему в рюкзаке не было тесно, учебники и тетрадки в школе оставила… Задумавшись, он даже не заметил, как в палату вернулась Татьяна Ильинична.
– Пришла я, – устало улыбнулась она. – Володя ещё в процедурном, девочки обещали после перевязки привезти.
Женщина присела на краешек стула, будто в гостях, выпрямила спину, сложила руки на коленях и застыла. Богдан тоже молчал. Каждый молчал о своем.
«…Никогда не думала, что замуж за шахтёра выйду. Не понимала, как это – спускаться в забой. Ты на шахту, а я – на колени, просить у Пресвятой Богородицы защиты – и тебе, и себе. Ты не оставляй меня, Володя, нечестно так, не по-совести – война у порога, а ты же знаешь – я взрывов боюсь… Помнишь, на шахте газ взорвался… Я онемела тогда, говорить не могла… Даже когда тебя на-гора подняли, живого-невредимого подняли, не могла слова вымолвить… Про себя кричу, а другим не слышно.
А ещё я мышей боюсь, ты же знаешь, и крыс… Мне недавно соседка рассказывала, что в войну крысы в дома шли, в ту войну, Отечественную, с немцем… А кто их знает, как они себя сейчас поведут? И темноты я боюсь… И… И как же я без тебя одна, а? Не выживу ведь, помру без тебя, Володенька, на второй день после тебя помру…»
«…Обещаю тебе, что больше никогда не брошу… Куда ты, туда и я. Не захочешь во Львове жить, продадим квартиру, в другом месте купим, там, где тебе понравится, где тебе удобно будет… А мне… мне все подойдет, лишь бы ты была рядом. Ты и девочки…»
В этом молчании медсестры вкатили тележку со спящим Владимиром Ивановичем.
– Спит. Устал он в жизни сильно, силу потерял… – положила Татьяна Ильинична удобнее руку мужа. – Я ведь в молодости быстрой была, все в руках горело, всюду успевала. После работы – репетиция хора, пьесы какие-то, постановки… Всего и не припомнишь… А потом – танцы. У нас отдыхающих много было, особенно зимой… По профсоюзной путёвке приезжали, рабочие в основном. Однажды парень мне приглянулся. Видный такой, красивый, разговорчивый – не переговоришь и не остановишь… Севой звали… Всеволод, значит. Гляжу, и он ко мне неравнодушный, все Танечка да Танюшенька. Ну, думаю, пропала девка!
Прибегает однажды он ко мне: «Просьба к тебе, Танечка, имеется, помощь нужна. Тут ко мне друг один приехал, так его… Ну, сама увидишь». Чего уж, думаю, помогу, если надо, люди хорошие, чего не помочь? Так вот, приводит Сева этого друга своего и официально так: «Знакомьтесь, Татьяна Ильинична, Владимир. Прошу любить и жаловать».
Я сразу и оробела от официальности такой, а затем в себя пришла, глаза вверх подняла, смотрю… А он, батюшки мои светы, сам длинный такой, высокий, что тебе жердь, и тощий-тощий, будто с креста снятый. Я так и обмерла вся – никогда в жизни таких худющих не встречала. Ты бы его видел – одни кожа да кости! Такого жаловать ещё куда ни шло, а вот любить?.. С любовью тут не получится, думаю, да оно и без надобности…
Потом оказалось, что Володя тогда после болезни был – простыл где-то, воспаление подхватил, двухстороннее, и вес, и силы потерял… Как вот сейчас… Взяла я, значится, шефство над ним – откормить пообещалася. Так и пошло: всем норму – ему полторы, да ещё пирожок свеженький, да тефтельку на добавочку, да котлетку с конфеткой… Девчата на кухне первое время смеялись, потом, вижу, тоже прикармливать стали – «я твоему Володьке то, а я твоему Володьке это…» Будто игра такая получилася… Так три недельки и пролетели, как пить дать. Привыкла я к нему, уже и на худобу внимания не обращаю – мой, да и мой. А однажды…
Женщина встала, подошла к окну. Богдан видел только её силуэт, а еще лицо, лицо со свадебной фотографии – молодое, задорное, с румянцем во всю щеку, совсем непохожее на нынешнее – уставшее, с горькими складочками у рта. Через минуту Татьяна Ильинична продолжила свой рассказ:
– Прихожу однажды я на смену, а их нет – ни Севы нет, ни Володи. Уехали, не попрощавшись. У меня будто сердце из груди вынули, даже не думала, что буду так переживать. Обиделась я сильно тогда… На весь мир обиделась. По вечерам дома сижу, никуда не выхожу – кружки забросила, хор… На танцы – ни ногой, сижу, реву, себя жалею.
Но люди говорят – время лечит. Таки правду говорят. Начала и я в себя приходить. Потихоньку, правда, полегоньку, но дома уже не запираюсь. И вот выходим мы однажды с Настюхой, подругой моей, из кино, с последнего сеанса, а в самый аккурат возле выхода Володька мой стоит, небеса головой подпирает.
Ну, думаю, устрою я тебе самодеятельность, дорогой, чтобы знал, как девушек бросать, чтобы впредь неповадно было. Сделала вид, что не знакомы, Настю под руку и вперёд. Он – за нами: «Таня, подожди!» да «Танечка, прости!». А мы, знай своё, ещё быстрее побежали. Молодые были, зеленые… Сейчас, как вспомню, смешно становится, а тогда… тогда казалось, что именно так и надо было поступать. Время было другое, люди другие… Наивные мы были, бесхитростные, не то, что современная молодежь…
Так вот, бежим мы и не оглядываемся даже, и вдруг я слышу: «Татьяна, стоять! Разговор серьёзный к тебе имеется!» От неожиданности стала, как вкопанная. Не привыкла я, понимаешь ли, к такому обращению, дай, думаю, отвечу счас. А Владимир-то мой не стал ждать, к нам подошел и с ходу: «Выходи за меня замуж, Танюша. Жить без тебя не могу». Даже обижаться перехотелось. Так и живём с тех пор душа в душу. Состарились уже… Дети, внуки…
Татьяна Ильинична прикоснулась ко лбу мужа, провела рукою по волосам:
– Совсем седой стал, а я и не заметила…
Богдан приготовился слушать продолжение истории, но его не последовало. Вскоре он и сам задремал. Сквозь сон к нему доносились негромкие разговоры, суета вокруг соседа по палате, но не успевал он полностью проснуться, как снова проваливался в черную бездну, теряя нить происходящего…
А там, в кромешной темноте, он упорно пытался догнать серебристого ворона, с такой же упрямой решимостью уходящего от него по прямой, как струна, дороге. Иногда он чувствовал, как силы покидают его, ватные ноги заплетаются, а в груди не хватает воздуха. Тогда ворон, будто догадываясь, что его преследователь устал и с минуты на минуту остановится, поворачивал голову назад, удивленно смотрел на него строгим, не мигающим глазом, широко открывал серебристый клюв и сердито хрипел: «Поррра!», заставляя его снова и снова идти за собой…
Еще не открывая глаз, он ощутил яркий свет в комнате и услышал тихий, но уверенный голос:
– Ну-с, молодой человек, давайте знакомиться. Владимир Иванович я, Володя. А вас, я так понимаю, Богданом нарекли? Я на «ты», если не обидишься, буду? По возрасту ты мне в сыновья годишься, да и обстановка сейчас такая, что ни к чему условности. Я про тебя уже наслышан. Ты ведь со Львова к нам пожаловал? Красивый город, интересный, когда-то приходилось бывать…
Увидев удивление в глазах Богдана, его сосед улыбнулся:
– О тебе Савва доложил, да и Таня словечко доброе замолвила… Ещё дома… Даже не думал, что посчастливится увидеться. Она все переживала, куда ты исчез, как сквозь землю провалился. А ещё я разговор ваш слышал. Сил не было показать, что слышу, понимаешь, глаза не мог открыть, ресницами пошевелить… Пренеприятнейшее, признаюсь, состояние.
Ну, а сейчас вроде все, вроде отпустило маленько, полегчало… Даст Бог, выкарабкаюсь, и не такое случалось. Вот и тогда, когда с Татьяной познакомился, тоже не мёд был, это она, жалея меня, не все тебе выложила. То, что я худой был, это ещё мягко сказано! Кощея знаешь? – хитровато прищурившись, спросил Владимир Иванович. – Так вот, он – писаный красавец по сравнению со мной! Приболел я дюже тогда, в шахте сквозняков нахватался, а молодой, ретивый был, думал, сам выкручусь, своими силами… Недели две температурил, пока ребята силой в медпункт не отвели. Пришлось чуток в больнице поваляться, как сейчас…
Володя прервал рассказ и закрыл глаза. Дыхание его стало частым, прерывистым, лоб покрыла испарина, словно он только что тяжело работал или бежал кросс. Украдкой рассматривая мертвенно-бледное, будто пергамент, лицо соседа, его заострённый нос, капли пота над верхней губой, Богдан уже не надеялся услышать продолжение истории, когда Владимир открыл глаза и снова заговорил:
– Так о чем я тебе толковал? Ага, на следующий день мы к Ольге пошли, к сестрице её старшей, благословенья вроде как просить. Оля уже домашняя была, пристроенная, хозяйственная такая, деловая: при муже, при детях, свекровь со свекром рядом… Как увидела она меня, сразу мужика своего куда-то послала, а сама давай Таню уговаривать с замужеством не торопиться, лучшей партии подождать.
Представляешь, и это все при мне, не стесняясь, притом не в самых лучших, так сказать, выражениях, словно я и не человек вовсе, а так… вроде мебели. Потом Олин муж вернулся, а с ним – брат его двоюродный, важный такой – хозяин… У него, скорей всего, на Таню вид имелся. Чуть не побили они меня тогда… Взаправду! Хорошо, Татьяна характер проявила, успокоила. Родственнички, однако!.. Потом, правда, к консенсусу пришли – свояк весьма приятным человеком оказался. Да и брат его ничего, быстро в обстановке разобрался… Мы потом даже дружили некоторое время, семьями.
Владимир Иванович рассмеялся, вспоминая комичность ситуации, но потом серьёзно произнес:
– Я иногда вот думаю – зря связалась она со мной… Понимаешь, голос у Тани редкий, уникальный. Ей бы учиться продолжать, да в певицы, а не в повара… А тут ещё дети пошли друг за дружкой… Сказал ей об этом однажды, а она обиделась, глупенькая, мол, избавиться от неё хочу. Как дитя малое, обиделась…
Мужчина довольно улыбнулся. Было видно, что и сейчас, спустя почти полвека, он влюблен в свою супругу и гордится ею.
– Она такая – все может! Обижается, что в ополчение не берут, а сама, знаешь, как помогает?! И борщи для потерявших жилье варит, и каши, и одежду с подругами собирает, людей одиноких пристраивает… У них даже штаб есть свой, женский, где они дела разные обсуждают. Все наши, Богдан, в ополчении – и мы, и дети наши, и знакомые… Всем миром свой дом защищаем, всем миром.
У соседей, в Луганске, представляешь, армией немец командовал! Да-да, самый настоящий немец… Лёша, правда, в Стаханове родился, но уже лет двадцать, как в Германии живет, то есть, жил. Когда у нас это случилось, приехал помогать… Хороший он человек, со стержнем. Настоящий.
И в Украине, там, в той Украине, Богдан, тоже люди всякие… Разные люди… Как и всюду – разные. Да что я тебе буду рассказывать – сам знаешь, как и то, что многие не ведают, что творят. Иногда мне кажется, что заблудились они, заблудились по самое некуда, с дороги сбились, а вот как выбраться – не понимают. Вроде котят слепых – куда идти не знают… Суетятся, мечутся, из стороны в сторону бросаются, а выйти не могут – направление потеряли…
«Разные… Это верно, – молча соглашался с Владимиром Ивановичем Богдан. – И что суетятся-мечутся – тоже верно. И что с дороги сбились – правда, вот только как выход найти? Как из этого страшного лабиринта выбраться?»
–…А мы политикой, Богдан, не занимались. Работали, детей рожали, на ноги их поднимали… Кто мог подумать, что такое будет? Я даже в самом страшном сне не мог себе представить, что к нам придёт война…
Начавшийся обход прервал их разговор. Доктор на удивление рассеянно отправил на перевязку Владимира, отпустил медсестру и, тщательно закрыв за ней дверь палаты, устало опустился на стул возле Богдановой кровати.
– Молодой человек, вы уже не дитя, буду говорить прямо – мы сделали все, что могли, чтобы вы зрение не потеряли. Не хочу вас пугать, но этого мало – вам консилиум специалистов требуется, хорошее лечение, уход, а время такое, что, увы… Сами понимаете, нет возможности, нет… Эх, раньше было – только заикнешься, как тут тебе и хирург столичный, и офтальмолог, и терапевт – любое научное светило приезжало, чтобы больного осмотреть, лечащего врача проконсультировать. Бывало, что и вовсе пациента забирали на операцию или лечение, а сейчас… Сами видите, что сейчас – и хотели бы выше себя прыгнуть, да не получается. Даже из Донецка не всегда могут приехать – у них у самих работы невпроворот, особенно после обстрелов… Что сделаешь – война…
Доктор огорчённо развел руками. Называя непонятные медицинские термины, он коротко обрисовал состояние правого глаза и возможные рецидивы впоследствии. Из длинного набора умных слов Богдан выудил самые важные, как ему показалось, названия – внутриглазное кровоизлияние, отслойка сетчатки и повреждение мембраны стекловидного тела. Последнее запомнилось только благодаря сочетанию, казалось бы, не сочетаемого, вот только что означают эти понятия, он не знал, и доктора спрашивать не хотел – ему было все равно, что в будущем произойдет с глазом, или даже с обоими глазами, или по большому счету с ним самим.
Будущее вообще не беспокоило его. Впрочем, как и настоящее. В какое-то мгновение его жизнь остановилась, и теперь все больше напоминала фарс, пустой бесплодный фарс, бессмысленный и никому не нужный, ненужный, как и он сам, житель западно-украинского города, бог весть почему возомнивший себе, что его правда выше правды других, его жизнь – выше жизни других, и что за своё существование остальные должны платить ему высокую цену.
Увидев безразличие пациента, доктор закончил монолог, немного помолчал, смутившись, что его слова остались без внимания.
– Я знаю, у вас дети, Богдан, жена, не буду объяснять вам прописные истины, тем более, не думаю, что в дальнейшем вам нужны проблемы, не исключаю, даже слепота. Так вот, повторюсь, все, что в наших силах, мы сделали. Завтра – на выписку…