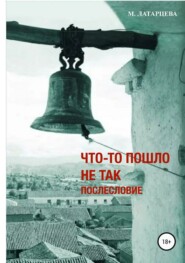По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что-то пошло не так
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет батьки больше, земля ему пухом… Ты не подумай, что от войны… Нет-нет, от сердца помер, давно уже. Ему тогда шестьдесят первый шел. На пенсии уже был, а все работал, не хотел без дела сидеть, говорил, не привык. Проснулся утром, чтобы на смену, и… Соседка наша, Женя, прибежала, укол ему, второй, но все напрасно. В пять минут ушёл, не успели спасти. «Скорая» уже после приехала… Смерть засвидетельствовала…
Богдан хочет сказать, что он не тот, за кого принимает его неожиданный гость, но не успевает.
– Ты похож на него… Я – нет, я в матушку пошел. Ну, может, характером немного, да и то – с большой натяжкой, а так… нет, не похож. У меня только имя его. Мама всю жизнь любила отца, да и он отвечал ей взаимностью, но иногда папа рассказывал о львовской девушке – Ядвиге. Запала в душу она ему. Знаешь, с матушкой они только через год поженились… Через год после его встречи с твоей мамой. Отец о тебе не знал. Думаю, если бы знал, наверное, вернулся бы во Львов…
Рассказчик снова замолкает. В палате воцаряется тишина, а Богдан видит разбитый дом без крыши, открытый люк в полу, вспоминает старую фотографию, как ему раньше казалось, маминого родственника, на деле оказавшимся его… его родственником, а не маминым…
– Да кто его знает – вернулся бы, не вернулся… Одним словом «бы», а имеем, что имеем.
Мужчина немного помолчал, будто замешкался в поисках подходящего слова:
– Может, тебе это покажется странным, но мы с тобой братья. По отцу только, конечно… Но, как говорится, из песни слов не выбросишь… Что ж, давай знакомиться. Михайло.
Он снова сделал паузу:
– Странно как-то получается… Будто передача «Жди меня»… Никогда не поверил бы, что такое возможно… Что такое в жизни случается… Всегда думал, что по телевизору артистов показывают, ан, нет, вот оно как может повернуть! Матушка, когда в себя пришла, рассказала, что к ней во сне отец приходил, опять про Ядвигу свою рассказывал. Я думал, фантазирует, выдает желаемое за действительное. Слабая она уже… Здоровье никудышнее… Да ещё эти стрессы, война… Вот я и не придал её словам значения.
А мама – по новой, ещё раз то же самое повторяет, затем ещё, а потом и ты объявился! Понимаешь, у нас территория небольшая, и когда чужой появляется, его ведут, – и будто извиняясь, мужчина добавляет: – Не обижайся, время такое. Ты же почти целую неделю скитался по нашей земле, все норовил в каждую щель заглянуть, что-то вынюхивал, выискивал, а потом исчез неожиданно…
– Ну да, я на шпиона похож? – обвинения Михаила задели его за живое. – Я часть свою искал, а не шпионил. Вели они!.. Чего тогда не взяли, «ведуны»? Исчез, говоришь… Неожиданно… Испарился, что ли? В пруд нырнул и не вынырнул? Почему же тогда не спасали, коль важен я? Вели они…
– Кто знал, что у тебя в карманах? Пока опасности не представлял, вели, наблюдали… Говорю же, время такое сейчас… Сложное время. Не мы к вам в дом пришли, и вас к себе с оружием не приглашали…
– Мужчина, – голос медсестры превращается в сталь. – Вас доктор предупреждал, что больному нужен покой, что волнения ему противопоказаны? Прошу вас покинуть помещение!
– Ну вот – поговорили… Вообще-то я так много в жизни никогда не говорил, а это… прям, разошёлся весь – самому не верится. Так, ты это… поправляйся, выздоравливай… Я как-нибудь ещё заскочу, тогда и обсудим все. Ах, да, совсем забыл – ребята просили передать, что Рыжик поправляется! Ну, бывай!
Миша почти выскочил из комнаты, подняв дверью ветер. «Нервишки никуда не годятся! Воды бы сейчас, целый стакан!»
– А вы водички попейте, – будто подслушала его мысли медсестра, и он тут же ощутил в руке трубочку. – Только смотрите, не переборщите, доктор просил вам воду понемногу давать. Вы подумайте себе спокойненько, с силами соберитесь, а я тут выйду ненадолго, хорошо? Эк, сколько всего случилось-то! Сколько всего произошло! Такое даже здоровому человеку не всякому под силу, а уж вам – и подавно…
Девушка ушла, а он лежал, не зная что делать. Впервые в жизни ему не думалось. И не потому, что мыслей не было, нет, наоборот, их было слишком много, столько, что сосредоточиться на чем-то одном было очень трудно, практически невозможно. Он вспомнил давний разговор.
«…– Богдан, ты уже взрослый, сынок, все понимаешь – от нас ушёл отец, – мама, как всегда, была немногословной.
– А когда он обратно вернется?
– Не хочу тебе ничего обещать, поживем – увидим.
Папа вернулся в воскресенье. На время. С новым зеленым самосвалом. У самосвала был почти настоящий руль, который крутился, и высокие черные колеса. Потом был день рождения, первое сентября, день Святого Николая…
А потом у отца появилась другая семья. Об этом также ему сообщила мама:
– Ты ведь понимаешь, Богдан, что у взрослых – взрослая жизнь, и очень много дел?»
Он все понял. Понял, что отец ушел, понял, что по каким-то неизвестным ему причинам он не будет с ним даже встречаться, и только сегодня, несколько часов назад, он понял ещё одно – он любит отца. Не этого, Мишиного, которого он никогда в жизни не видел и уже никогда не увидит, а своего, родного, того, что остался во Львове.
Тогда, в детстве, обида на папу заслонила собой эту любовь, перечеркнула все, что связывало их прежде, заставила гнать прочь воспоминания, но сегодня он узнал правду, и эта правда многое объясняла. Он дал себе слово, что по приезде домой обязательно найдет отца, найдет, чтобы сказать, как он любит его, как скучал по нему все эти годы, а ещё, чтобы попросить у него прощения за маму, и за её женскую гордость…
– Просыпаемся! Умываемся! Доброе утро, больной!
Женщина с жутким грохотом отодвинула сон, шторы и открыла окно:
– Ну вот, а я к вам солнышко пригласила! Сегодня оно особенно яркое – первое, никак, сентября! Правда, дети в школу не пойдут. Наши дети…
Богдан не знал, какое сегодня число, не видел ни солнца, ни санитарки, но слышал, как она шумно передвигает с места на место кровати, стулья, громыхает шваброй и приговаривает:
– Их дети пойдут в школы и детские сады, а наши будут сидеть в подвалах… Их пенсионеры будут получать пенсии, а наши – не будут… Их дети пойдут в школы, а наши…
По звуку закрываемой двери палаты он понял, что уборщица вышла в коридор, но и там женщина продолжала бубнить слова президента. Он тоже помнил эти слова, но до сих пор не мог понять их. Он – простой среднестатистический гражданин Украины, «пересичный украинец», как любила повторять власть, не мог понять – радоваться ему или печалиться, оттого что высшее государственное лицо – президент, выразил ему и ещё половине страны своё доверие и уважение, а другой половине – неприязнь и презрение?
Наверное, нужно было радоваться, как радовались многие его соседи и знакомые, и гордиться доверием президента, но что-то мешало, что-то не давало наслаждаться такой сомнительной победой…
Ещё через час Богдана отвезли в перевязочную. Врач долго осматривал его глаза, спрашивал о самочувствии, об ощущениях, проверял реакцию зрачков на свет. Потом на правый глаз снова наложили повязку, а левый оставили свободным, хотя видел он им только туман – густой молочный туман, как в недавнем сне, и в тумане этом плавали расплывчатые тени. Опасаясь, что бинты наложат обратно, жаловаться доктору не стал.
Уже в палате, чтобы никто не заметил, он пытался тренировать зрение: открывал-закрывал глаз, рассматривал руку, приближая и отдаляя её, фокусировался на кончике носа, но резкости по-прежнему не доставало, мало того, прежде светлый, туман заметно потемнел, стал мутновато-серым, а вокруг глаза заплясали огненные искры. Ещё через несколько минут он почувствовал себя, будто выжатый лимон, захотелось спать, и не было ни сил, ни желания сопротивляться этому.
Проснулся он от криков и шума. По коридору, громыхая и повизгивая на поворотах, быстро проносились больничные тележки. Он слышал, как кто-то надрывно командовал, распределяя больных по палатам, как кто-то, то ли от боли, то ли от горя, плакал, как кто-то просил Бога о помощи… Все это продолжалось около часа, потом постепенно успокоилось, затихло.
И только он снова попытался заснуть, как дверь палаты широко распахнулась, пропуская каталку со спящим мужчиной, закрытым до самого подбородка простыней. Вслед за ним, словно на привязи, в комнату просочились медсестры, держащие в руках стойки капельниц. Мужчина не шевелился и, кажется, не дышал. Из бурых бутылок по трубочкам-венам лениво струилась кровь. Не задерживаясь, мрачные змейки неспешно исчезали под белой простыней. Даже не взглянув на Богдана, девушки убежали.
«Что же случилось? Неужели очередной обстрел?» – спрашивал он себя, с любопытством разглядывая спящего. Темно-русые волосы с седыми висками, высокий лоб, на верхнем веке – темная полоска, будто вырисованная тушью. «Шахтер», – отметил знакомое с детства. Такие следы въевшейся угольной пыли он встречал у своих земляков, в соседнем Червонограде. Там тоже шахты были. Поменьше, конечно, чем в Донбассе, да и качество угля не то, но шахты были. И люди там работали – такие же шахтеры, как и здесь.
В последнее время он часто ловил себя на мысли, что сравнивает две Украины – Восточную и Западную, сравнивает людей, проживающих на этих территориях, их жизнь, уклад, традиции. Для чего ему это – непонятно. Может, для того, чтобы понять, как так произошло, что граждане одной державы воюют друг против друга? А, может, для того, чтобы оправдать эту войну? Или для того, чтобы назначить виновного? Тогда, кто прав, а кто виноват? Казалось, мысли роились в голове, как пчёлы в улье, отчего поселившаяся там тупая зудящая боль становилась практически невыносимой.
Он закрыл глаза, но ни боль, ни вопросы, мучившие его, не исчезали. «Кто прав? Кто виноват? – пульсировала кровь в висках. – А что, если люди, живущие по разные стороны Киева, даже не подозревают, что происходит там, в противоположной части Украины? Ведь не знал же он, пока сам не попал на Донбасс…»
Дверь открылась снова, и, прервав его размышления, в палату вошел доктор. Кивнув Богдану, он поправил простыню, накрывающую только что прибывшего, измерил пульс, потом наклонился над спящим мужчиной. Низко-низко наклонился, так низко, что казалось, будто он его нюхает.
– Дыхание ровное. Спит, – произнес он, обращаясь к подошедшей женщине.
Она тоже наклонилась к больному, коснулась губами его лба.
– Спит. Как он, доктор?
– Все в руках божьих. Сделали все возможное. Будем надеяться…
Богдан не верил своим глазам, он даже привстал от неожиданности – напротив него стояла Татьяна Ильинична. Она тоже заметила недавнего гостя:
– Богдан, сынок, а с тобою что? Что с глазами? Ты куда пропал? Савва приехал расстроенный, говорил, только людей нашел, вызвавшихся Богдану помочь, глянь, а его в машине нет. Что случилось, дорогой? Рассказывай.
– Татьяна Ильинична, я – мобилизованный…
– Да знаю я, знаю! У нас территория небольшая… – замахала руками женщина, будто повторяя слова Михаила. – Ты мне другое скажи, что с глазами твоими? Как ты себя чувствуешь? Сам понимаешь, Володя проснется – не до тебя будет.
После этих слов все остальное, приготовленное Богданом в качестве оправдания, потерялось, оказалось лишенным смысла. Как же так – он ночами не спал, подбирая слова, отвечая на свои же вопросы, и вдруг – ничего этого не надо? Стало обидно, что все просто, что не надо юлить, не надо оправдываться, не надо врать, можно просто сказать правду, и мир от этого не рухнет… Почему так случилось, почему? Почему то, к чему он был готов, перевернулось с ног на голову?
И снова в голове громоздился невообразимый хаос, снова мысли путались, мозги плавились, но понять происходящее он был не в состоянии.