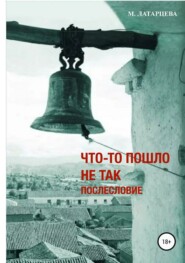По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что-то пошло не так
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То, что он был этим людям враг, ему стало давно понятно. Как там сказал Михайло: «Не мы к вам в дом пришли, и вас к себе с оружием не приглашали»? И по старой привычке, приготовившись к худшему, к неприятию и непониманию, Богдан был ошарашен, что эта женщина его понимает. Мало того, она относится к нему, как к человеку, просто, как к нормальному человеку…
«Но так нельзя! Нельзя всем поголовно верить, ведь люди разные бывают…» – думал Богдан, в который раз удивляясь доверчивости Татьяны Ильиничны. Он не мог понять, почему эта женщина так доверяет ему? А ещё не мог понять, зачем врачам его спасать? Он многого не мог понять, и от этого становилось ещё хуже. Лишь одно он знал, был в этом твердо уверен: он – враг этим людям, и пришёл к ним не с благими намерениями.
«Враг! Враг!» – стучал в голове молоточек. – Нет! Не может этого быть! Так нельзя!» Внезапно ему показалось, что последние слова он прокричал вслух. Он оглянулся на Татьяну Ильиничну, но та спокойно поправляла постель на кровати мужа.
Женщина не слышала, или он не кричал? Временами ему казалось, что он сходит с ума. Полуявь-полусон на шаткой грани с реальностью, полумрак в глазах и полуобморок в голове переплелись в вязкий живой клубок, растущий на глазах, увеличивающийся с каждой минутой, и с каждой минутой впитывающий в себя чувство вины и гнева, досады, раздражения и ещё чего-то не высказанного, тяжелым камнем лежащего на сердце и не дающего жить дальше… Этот клубок заменил ему на время жизнь.
Так больше не могло продолжаться. Изъеденные нервы могли не выдержать и лопнуть, как струна. Что делать? Как ему жить? Подсознанием он чувствовал, что разгадка где-то рядом, где-то на поверхности, на видном месте, и нужен только толчок, чтобы её найти. А ещё ему хотелось говорить. Хотелось рассказать о себе, о своей семье… Что-нибудь рассказать… Просто так… Рассказать, чтобы эти люди знали, какой он человек, чтобы понимали, что он не представляет для них опасности, что он никому из них не желает зла, что никому намеренно не причинит боли…
Не выдержав напряжения, он заговорил:
– В детстве мне нравилось ходить в гости к бабушке. Она за городом жила, в частном доме. Рядом с домом лес, озеро… Гуляй – не хочу! Я все лето только тем и занимался, что играл с друзьями, ходил в походы на другой конец леса, к ручью, и купался в озере… Беззаботная жизнь, не правда ли? Но была в доме бабушки тайна, которая мучила меня, не давала покоя.
Эта тайна жила в маленькой, всегда запертой на ключ, комнате, куда входить имела право только бабушка, остальным домашним вход был строго воспрещён. Понятно, я не мог смириться с данным положением вещей. Шло время, я подрастал, и вместе со мной росло желание попасть в тайну, а со временем это желание превратилось в дело чести, в «идею фикс».
Для начала я тщательно обследовал окно, но, к моему глубокому сожалению, оно оказалось закрытым наглухо, а само помещение надёжно спрятано от посторонних глаз тяжелыми плотными шторами.
Потом пришла очередь чердака, но, кроме больших деревянных сундуков со старыми газетами и журналами, там тоже ничего интересного не было. Тогда я решил взять неприступную крепость осадой.
Набрав с чердака недавно найденных журналов, я устроился в коридоре, да так, чтобы одним глазом видеть заветную дверь. Время от времени я покидал свой пост, делая вид, что у меня есть другие, более важные занятия – гулял с друзьями, играл с ними в футбол, ходил в кино, но каждый раз я возвращался обратно на свой насест, переживая, не пропустил ли самого главного.
И вот однажды, когда я целиком и полностью отчаялся увидеть человека, чьё присутствие в доме так тщательно охранялось, дверь открылась, и из комнаты донеслось:
– Заходи, Богдан, нечего под дверью ошиваться. Познакомься с Настей, дорогой.
Три шага, разделяющие меня и тайну, дались мне нелегко – меня бросало то в жар, то в холод, а сердце отчаянно вырывалось из груди, не давая дышать. Еле справившись с эмоциями, я переступил порог. Не знаю, что я ожидал увидеть – сказочного рыцаря, златовласую красавицу или сокровища Али-Бабы, но явно не то, что увидел – то, к чему я так безумно стремился, ради чего безвозвратно потратил массу драгоценного времени, на деле оказалось обычной, с изъеденным оспой лицом, закутанной в тёплый платок старой женщиной. Ничего худшего я не мог себе представить…
Богдан прервал свой рассказ, вспоминая детскую горечь от рассыпанных в пыль иллюзий. Даже сейчас, спустя несколько десятков лет, он помнил своё глубокое разочарование, граничащее с шоком.
Это был крах! Это был конец света! Он не знал, что делать. Не знал, как рассказать друзьям, что в доме бабушки живет ещё одна бабушка, к тому же, не самая здоровая… И все! Больше ничего! Никакой тайны на самом деле нет.
А ещё он боялся, что ребята засмеют его, затюкают. В тот день он потерял не только свою мечту, но и веру в чудо. Друзьям решил о случившемся не говорить, будто бы ничего и не произошло, все по-старому – комната закрыта, а ключ у бабули. И лишь спустя несколько лет он узнал, кто такая эта женщина, годами не выходившая из дома.
Однажды им позвонила взволнованная бабушка. Выслушав её, мама оделась в костюм, тот, что в нем в церковь ходила, и уехала, приказав Богдану запереть дверь и учить уроки. Не было мамы весь день, а вечером, после возвращения домой, она усадила его напротив себя и рассказала о Настасье.
– Богдан, ты должен знать, что во время войны в нашем городе жили разные люди – добрые и не очень. Вторые, недобрые, не понимая, какой грех творят, забирали из дому людей и убивали их. Однажды они пришли и за семьей Насти. Вместе с другими такими же несчастными семьями их отвели в лес и там расстреляли…
– Как в кино, мама? Совсем расстреляли? – не выдержал Богдан.
– Как в кино, сынок, совсем, – согласилась мама. – Только маленькую Настеньку её мама закрыла своим телом, и девочка не пострадала. Через три дня её, чуть живую, нашли люди, приехавшие, чтобы похоронить страдальцев. Они отдали дитя нашей бабушке. Настя долго болела, но Пресвятая Богородица помогла ей, правда, с тех пор девочка боялась людей. Она прожила долгую жизнь, если, конечно, это можно назвать жизнью – пережитое не давало ей покоя: она кричала по ночам, могла неделями не говорить и не любила выходить из дому. Сегодня Настасья умерла, царствие ей небесное. Отмучилась, несчастная… Не дай, Господи, никому такой доли…
Мама перекрестилась на икону Божьей Матери, а на следующий день дала Богдану в школу конфеты – на помин души Анастасии. Уже старшим он узнал, что Настя и её семья были евреями, а его бабушка, полячка по-национальности, ухаживая за девочкой во время войны, когда преследовались и первые, и вторые, рисковала накликать беду не только на себя, но и на своих родных. Больше эту тему они с мамой не обсуждали.
Татьяна Ильинична слушала, не перебивая, изредка кивая головой, а Богдан внезапно подумал, что герой его рассказа – вовсе не он, а человек, шагающий рядом, и он не о себе рассказывал, а об этом чужом человеке, которого знает намного лучше, чем себя.
В его семье было много тайн, закрытых для чужих, и много моментов, о которых предпочитали молчать даже между собой. Оказалось, что и сам он – не исключение, и, возможно, если бы не его мобилизация, он так и не узнал бы, что его отец ему не родной, не узнал бы, что у него есть брат… На этот раз – родной… Почти родной…
Да, что-то пошло не так, но он не знал, что именно не так, не знал, где правда, а где ложь – все перемешалось, перепуталось, мир перевернулся вверх ногами, и отыскать истину в этом невероятном беспорядке было практически невозможно.
И ещё эти сны… Сны, в которых ему казалось, что душа покидает его тело и живет отдельно, независимо от него, не особо переживая, что в это время случилось с ним на земле. Мало того, она, его мятежная душа, в своих путешествиях была абсолютно зрячей и видела даже то, что видеть было крайне нежелательно…
Неожиданно больной зашевелился. Он судорожно сглотнул, до хруста сжал руку Татьяны Ильиничны, открыл глаза и, не мигая, уставился в потолок. Медсестра побежала звать доктора. Тот с полувзгляда приказал:
– В реанимацию.
И снова палата опустела, но в этой гулкой пустоте осталась надежда на возвращение, надежда на жизнь. Богдан осторожно встал. Вышел в коридор. Ни звука. Медленно прошел мимо закрытых дверей палат, повернул направо и застыл на месте – в уголочке на коленях, со сложенными в молитве руками, стояла женщина. Смутившись, он тихо попятился назад.
Казалось, время остановилось. Процедуры, еда, осмотр глаз происходили параллельно, отдельно от того важного времени, в котором решалась судьба человека. Он весь превратился в слух, в ожидание, уповая на последний миллиграмм чуда, на крохотную частичку везения, дарованного Богом каждому человеку.
Приходила и уходила санитарка, справлялась о самочувствии медсестра, молилась в уголке женщина, а он ждал. Кажется, дышал через раз, ждал, будто от того, выживет ли Владимир, зависела и его жизнь.
Звука каталки он даже не услышал, просто почувствовал её приближение. А еще почувствовал стук сердца, живого человеческого сердца. Владимир жив. Должен жить. Почему же они не едут? Минуты ожидания превратились в вечность, пустота в голове – в вакуум…
Он закрыл глаза, вспомнил молитву: «Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице… Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну… Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши…»
– Ну вот, мы вернулись, – донеслось до него уставшее.
«Слава Богу, вернулись», – вздохнул он облегченно.
И снова по трубочкам-венам громко капала жизнь, и снова Татьяна Ильинична держала в руках руку мужа, передавая ему свою любовь и силу.
– Доктор пообещал, что будет жить, – одними губами прошептала она. – Сегодня нашу школу обстреляли. Второй раз за неделю… Только-только отстроили, в порядок привели после недавнего обстрела, как опять… Хорошо, детей ещё не было. Володя там случайно оказался – подарки от организации на праздничную линейку привез, а тут такое началось…
«Опять на высоком здании пристреливались», – вспомнил он батальон, в котором служил покойный Цевин.
–…Все в живых, слава Богу, остались, только привалило чуток… Он и кинулся из-под завалов людей выгребать… Дело уже к концу шло, когда оступился и на торчащую арматуру напоролся… Крови много потерял… Доктор обещал…
Татьяна Ильинична не договорила, что обещал доктор, глубоко вздохнула, потрогала лоб мужа, провела рукою по его щеке:
– Не бритый. Все некогда… С тех пор, как случилось это у нас, изменились люди, серьезными стали, на слова скупыми, осторожными. Глаза у людей изменились. Даже у детей глаза взрослые… Знаешь, такие себе маленькие старички, больно смотреть.
Наклонившись к мужу, будто что-то поправляет, женщина украдкой смахнула слезу.
– Одно не изменилось – душа… Как закончилась стрельба, все на помощь бросились, голыми руками пострадавших откапывали… Мы же шахтеры, мы ко всему привычны.
«Ко всему привычны», – повторил про себя Богдан. Перед его глазами, как в замедленной съемке, появлялись и пропадали разбомбленные села и города, разрушенные дома и заводы, накрытые густой сажей-пылью и обгоревшими тряпками трупы, покореженные мертвые машины и танки вдоль дороги, испуганные детские глаза под кроватью и длинная живая очередь за гуманитарной помощью…
– К такому нельзя привыкать, – произнес он вслух. – Это неправильно! Это неестественно – привыкать к войне!
Татьяна Ильинична посмотрела на него, будто увидела впервые:
– А что делать? Что нам делать, милый человек? Раньше я тоже так думала! И верила, что бомбежка Луганска – случайна, что нас обстреливают – по ошибке, по какому-то нелепому недоразумению, и что все это скоро закончится… Все в это верили. Но потом была Одесса, были эти девочки, почти дети, разливающие коктейли Молотова, а потом – сбитый самолет, пассажирский Боинг…
Только тогда я поверила, что не сплю, и, что весьма вероятно, ко мне в дом придет мой племянник… Придёт с оружием – убивать меня…
Знаешь, Богдан, а ведь в самом начале событий он позвонил нам: «Тетя Таня, на вас я зла не держу, не переживайте, но время такое… смутное – надо осторожными быть, так вот – хочу вас попросить больше нам не звонить».
Позже Оля перезвонила, за сына извинилась, пообещала общаться. Звонила ещё раз, и все – на этом общение наше прекратилось, закончилось… То ли сама испугалась последствий, то ли сын, Дмитрий, запретил, всякое может быть, – искала женщина оправдание молчанию родных. – А мы же сестры, понимаешь?! Сестры! У нас нет больше никого! Одни мы! Детдомовские. Брошенные… Уже однажды брошенные! Всю жизнь держались друг за дружку! Даже когда я замуж на Донбасс вышла – в гости ездили, звонили… И вдруг – нельзя… Да и племянник мой – родная кровь, не чужой, а нам запрещают родными быть, лбами сталкивают, и не в переносном, а в прямом значении… Разделили нас, рассорили, представляешь, даже общаться нельзя!..