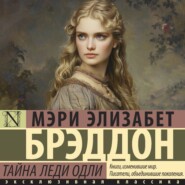По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайна леди Одли
Автор
Серия
Год написания книги
1862
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, думаю, он сказал что-то в этом роде.
– Честное слово, – воскликнул баронет, – похоже, он сошел с ума.
Лицо госпожи оставалось в тени, и сэр Майкл не увидел, как ее бледное лицо вспыхнуло, когда он сделал это простое замечание. Победная улыбка осветила лицо Люси, явно говорившая: «Вот оно – я могу вертеть им, как пожелаю. Я могу показать ему черное, но если скажу, что это белое, он мне поверит».
Но сэр Майкл Одли, сказав, что его племянник не в своем уме, просто воскликнул это, не подразумевая такого значения. Действительно, баронет невысоко оценивал способности Роберта к повседневным делам. Он привык смотреть на своего племянника как на добродушного, но пустого человека, чье сердце природа щедро наградила добротой, но чью голову немного обошли при распределении интеллектуальных даров. Сэр Майкл Одли сделал ошибку, которую часто совершают беспечные состоятельные люди, не имеющие случая заглянуть в глубь вещей. Он принимал лень за глупость. Он считал, что если его племянник ведет праздный образ жизни, значит он обязательно глуп. Он решил, что если Роберт не отличился ни на одном поприще, так это потому, что не смог.
Сэр Майкл позабыл о молчаливом безвестном Мильтоне, умершем безгласным из-за недостатка той упорной настойчивости, того слепого мужества, которыми должен обладать поэт, если хочет найти издателя; он позабыл о Кромвеле, лицезреющем сей благородный корабль – политическую экономию, барахтающийся в море смятения и идущий ко дну в бурю шумной суматохи, и неспособного добраться до руля или хотя бы послать спасательную шлюпку тонущему кораблю. Ошибочно судить о способностях человека лишь по тому, что он совершил.
Мировая Валгалла – закрытое пространство, и возможно, самые великие люди – те, кто молча гибнет вдали от священных ворот. Быть может, самые чистые души – те, кто избегает суматохи беговой дорожки, шума и смятения борьбы. Игра жизни чем-то напоминает игру в карты, и иногда бывает, что козыри остаются в колоде.
Госпожа сняла шляпку и уселась на обитую бархатом скамеечку у ног сэра Майкла. В этом детском движении не было ничего заученного или притворного. Для Люси Одли было так естественно оставаться ребенком, что никто и не пожелал бы увидеть ее другой. Было бы глупо ожидать величественной сдержанности или женской степенности от этой желтоволосой сирены так же, как ожидать от глубокого баса чистого сопрано песни жаворонка.
Она сидела, отвернув свое бледное лицо от огня и положив руки на ручку кресла, где сидел ее муж. Они были так беспокойны, эти хрупкие белые ручки.
– Знаешь, я хотела прийти к тебе, дорогой, – начала она, – я сразу хотела зайти к тебе, как только вернулась домой, но мистер Одли настоял на беседе с ним.
– Но о чем, любовь моя? – спросил баронет. – Что мог сказать тебе Роберт?
Госпожа не ответила на этот вопрос. Ее прекрасная головка склонилась на колени мужа, волнистые золотистые волосы упали на ее лицо.
Сэр Майкл поднял эту прекрасную головку своими сильными руками и заглянул в ее поднятое лицо. Огонь камина осветил большие мягкие голубые глаза на бледном лице, в них стояли слезы.
– Люси, Люси! – вскричал баронет. – Что это значит? Любовь моя, что тебя так расстроило?
Леди Одли пыталась заговорить, но слова не шли с ее дрожащих губ. Ком в горле мешал вырваться этим фальшивым, но правдоподобным словам, которые были ее единственным оружием против врагов. Она не могла говорить. Отчаяние, овладевшее ею в мрачной липовой аллее, стало слишком большим, чтобы молча сносить его, и она разразилась истерическими рыданиями. Ее хрупкую фигурку сотрясало непритворное горе и разрывало ее, словно хищный зверь, на куски своей ужасной силой. Это был взрыв настоящего страдания и ужаса, раскаяния и горя. Это был один дикий выкрик, в котором более слабая женская натура берет верх над искусством сирены.
Не так собиралась она сражаться в страшном поединке с Робертом Одли. Она намеревалась использовать не это оружие, но, возможно, никакая хитрость не послужила бы ей лучше, чем этот одиночный взрыв горя. Он потряс ее мужа до глубины души. Он озадачил и ужаснул его. Он ослабил могучий ум этого мужчины до беспомощного смятения и растерянности. Он ударил по слабому месту в натуре этого порядочного человека. Он воззвал непосредственно к любви, испытываемой сэром Майклом Одли к своей жене.
Да поможет Бог нежной слабости сильного мужчины по отношению к женщине, которую он любит. Да сжалится над ним Господь, когда виновное создание, обманув его, бросается со своими слезами и горестными жалобами к его ногам в самозабвении и раскаянии, муча его видом своих страданий, надрывая сердце своими рыданиями, терзая его грудь своими стонами. Умножая свои собственные страдания до огромной муки, слишком тяжелой, чтобы перенести ее мужчине. Да простит его Господь, если сведенный с ума этим жестоким мучением, он нарушает на какой-то миг равновесие и готов простить все что угодно, готов принять это несчастное существо под защиту своих объятий и простить то, что мужская честь не велит ему прощать. Раскаяние жены, стоящей у порога дома, в который она больше не имеет права войти, не сравнится со страданиями мужа, закрывающего дверь перед этим дорогим умоляющим лицом. Мучение матери, которая никогда больше не увидит своих детей, – ничто по сравнению со страданиями отца, который должен сказать этим детям: «Мои маленькие, отныне вы сироты».
Сэр Майкл поднялся с кресла, дрожа от негодования, и готовый немедленно начать битву с особой, причинившей горе его жене.
– Люси, – промолвил он, – Люси, я настаиваю, чтобы ты рассказала мне, что или кто тебя расстроил. Я настаиваю на этом. Кто бы тебя ни огорчил, будет отвечать передо мной за твое горе. Ну же, моя любовь, рассказывай мне прямо, без утайки, в чем дело?
Он снова сел и склонился над поникшей фигурой у его ног, успокаивая собственное волнение желанием облегчить отчаяние жены.
– Скажи мне, в чем дело, дорогая? – нежно прошептал он.
Внезапный припадок прошел, и госпожа подняла голову: слезы в ее глазах мерцали слабым светом, и очертания ее хорошенького розового ротика, те тяжелые, жесткие складки, которые Роберт Одли видел на портрете, были отчетливо различимы в свете огня.
– Я такая глупая, – сказала она, – он и вправду чуть не довел меня до истерики.
– Кто, кто чуть не довел тебя до истерики?
– Ваш племянник – мистер Роберт Одли.
– Роберт! – вскричал баронет. – Люси, что ты хочешь сказать?
– Я говорила вам, что мистер Одли настоял на том, чтобы я пошла в липовую аллею, дорогой, – продолжала госпожа. – Он сказал, что хочет поговорить со мной, и я пошла, а он говорил такие ужасные вещи, что…
– Какие ужасные вещи, Люси?
Леди Одли содрогнулась и конвульсивно сжала своими пальчиками сильную руку, нежно гладящую ее по лицу.
– Что он сказал, Люси?
– О, мой дорогой, как я могу рассказать вам? – вскричала госпожа. – Я знаю, что расстрою вас или вы посмеетесь надо мной, и тогда…
– Посмеюсь над тобой? Нет, Люси.
Леди Одли на минутку умолкла. Она сидела, глядя перед собой невидящим взглядом, все еще сжимая руку мужа.
– Дорогой мой, – медленно заговорила она, запинаясь и с трудом подбирая слова, – вам никогда – я так боюсь рассердить вас – вам никогда не приходило в голову, что мистер Одли немного… немного…
– Немного что, дорогая?
– Немного не в себе, – запнулась леди Одли.
– Не в себе! – воскликнул сэр Майкл. – Моя дорогая девочка, что ты придумываешь?
– Вы только что сказали, дорогой, что он сошел с ума.
– Разве, любовь моя? – смеясь ответил баронет. – Не помню, чтобы я сказал это, ведь это просто так говорится, но ничего не значит само по себе. Может быть, Роберт немного эксцентричен, немного глуп, возможно, не очень отягощен умом, но не настолько, чтобы быть сумасшедшим.
– Но сумасшествие иногда передается по наследству, – возразила госпожа. – Мистер Одли мог унаследовать…
– Он не мог унаследовать безумие от семьи его отца, – перебил ее сэр Майкл. – Одли никогда не заселяли частные сумасшедшие дома и не платили таким врачам.
– А от семьи матери?
– Это мне неизвестно.
– Люди обычно держат такие вещи в тайне, – мрачно заметила госпожа. – Сумасшедшие могли быть в семье твоей золовки.
– Не думаю, дорогая. – ответил сэр Майкл. – Но, Люси, во имя бога, скажи мне, как это пришло тебе в голову?
– Я пытаюсь объяснить поведение вашего племянника. Иначе я не могу объяснить его. Если бы вы слышали, что он говорил мне сегодня вечером, сэр Майкл, вы бы тоже решили, что он безумен.
– Но что же он сказал, Люси?
– Даже не знаю, как ответить. Он так поразил и смутил меня. Мне кажется, он слишком долго жил совсем один в своих уединенных апартаментах в Темпле. Возможно, он слишком много читает или курит не в меру. Знаете, некоторые врачи считают сумасшествие простым заболеванием мозга, которому подвержен любой человек и которое вызывается определенными причинами и лечится определенными средствами.
Глаза леди Одли все еще были прикованы к горящим углям в широком камине. Она говорила так, как будто часто слышала рассуждения на эту тему, как будто мысль ее унеслась от племянника мужа к более широкому вопросу о безумии вообще.
– Почему бы ему не быть сумасшедшим? – сделала она вывод. – Люди бывают душевнобольными в течение многих лет, прежде чем обнаруживается их ненормальность. Они знают, что безумны, и знают, как держать это в тайне, и хранят свой секрет до самой смерти. Иногда их охватывает приступ, и в недобрый час они выдают себя. Возможно, совершают преступление. Накатывает ужасное искушение: нож в руке, ничего не подозревающая жертва рядом. Они могут усмирить беспокойного демона и уйти, и умереть, не запятнав себя насилием; но могут и поддаться соблазну – страшному, страстному, жаждущему желанию насилия и ужаса. Иногда они уступают, и тогда все кончено для них.
Леди Одли повысила голос, рассуждая на эту ужасную тему. Истерическое возбуждение, от которого она только что успокоилась, оставило на ней свой отпечаток, но она контролировала себя, и ее голос постепенно успокоился, когда она продолжила.
– Честное слово, – воскликнул баронет, – похоже, он сошел с ума.
Лицо госпожи оставалось в тени, и сэр Майкл не увидел, как ее бледное лицо вспыхнуло, когда он сделал это простое замечание. Победная улыбка осветила лицо Люси, явно говорившая: «Вот оно – я могу вертеть им, как пожелаю. Я могу показать ему черное, но если скажу, что это белое, он мне поверит».
Но сэр Майкл Одли, сказав, что его племянник не в своем уме, просто воскликнул это, не подразумевая такого значения. Действительно, баронет невысоко оценивал способности Роберта к повседневным делам. Он привык смотреть на своего племянника как на добродушного, но пустого человека, чье сердце природа щедро наградила добротой, но чью голову немного обошли при распределении интеллектуальных даров. Сэр Майкл Одли сделал ошибку, которую часто совершают беспечные состоятельные люди, не имеющие случая заглянуть в глубь вещей. Он принимал лень за глупость. Он считал, что если его племянник ведет праздный образ жизни, значит он обязательно глуп. Он решил, что если Роберт не отличился ни на одном поприще, так это потому, что не смог.
Сэр Майкл позабыл о молчаливом безвестном Мильтоне, умершем безгласным из-за недостатка той упорной настойчивости, того слепого мужества, которыми должен обладать поэт, если хочет найти издателя; он позабыл о Кромвеле, лицезреющем сей благородный корабль – политическую экономию, барахтающийся в море смятения и идущий ко дну в бурю шумной суматохи, и неспособного добраться до руля или хотя бы послать спасательную шлюпку тонущему кораблю. Ошибочно судить о способностях человека лишь по тому, что он совершил.
Мировая Валгалла – закрытое пространство, и возможно, самые великие люди – те, кто молча гибнет вдали от священных ворот. Быть может, самые чистые души – те, кто избегает суматохи беговой дорожки, шума и смятения борьбы. Игра жизни чем-то напоминает игру в карты, и иногда бывает, что козыри остаются в колоде.
Госпожа сняла шляпку и уселась на обитую бархатом скамеечку у ног сэра Майкла. В этом детском движении не было ничего заученного или притворного. Для Люси Одли было так естественно оставаться ребенком, что никто и не пожелал бы увидеть ее другой. Было бы глупо ожидать величественной сдержанности или женской степенности от этой желтоволосой сирены так же, как ожидать от глубокого баса чистого сопрано песни жаворонка.
Она сидела, отвернув свое бледное лицо от огня и положив руки на ручку кресла, где сидел ее муж. Они были так беспокойны, эти хрупкие белые ручки.
– Знаешь, я хотела прийти к тебе, дорогой, – начала она, – я сразу хотела зайти к тебе, как только вернулась домой, но мистер Одли настоял на беседе с ним.
– Но о чем, любовь моя? – спросил баронет. – Что мог сказать тебе Роберт?
Госпожа не ответила на этот вопрос. Ее прекрасная головка склонилась на колени мужа, волнистые золотистые волосы упали на ее лицо.
Сэр Майкл поднял эту прекрасную головку своими сильными руками и заглянул в ее поднятое лицо. Огонь камина осветил большие мягкие голубые глаза на бледном лице, в них стояли слезы.
– Люси, Люси! – вскричал баронет. – Что это значит? Любовь моя, что тебя так расстроило?
Леди Одли пыталась заговорить, но слова не шли с ее дрожащих губ. Ком в горле мешал вырваться этим фальшивым, но правдоподобным словам, которые были ее единственным оружием против врагов. Она не могла говорить. Отчаяние, овладевшее ею в мрачной липовой аллее, стало слишком большим, чтобы молча сносить его, и она разразилась истерическими рыданиями. Ее хрупкую фигурку сотрясало непритворное горе и разрывало ее, словно хищный зверь, на куски своей ужасной силой. Это был взрыв настоящего страдания и ужаса, раскаяния и горя. Это был один дикий выкрик, в котором более слабая женская натура берет верх над искусством сирены.
Не так собиралась она сражаться в страшном поединке с Робертом Одли. Она намеревалась использовать не это оружие, но, возможно, никакая хитрость не послужила бы ей лучше, чем этот одиночный взрыв горя. Он потряс ее мужа до глубины души. Он озадачил и ужаснул его. Он ослабил могучий ум этого мужчины до беспомощного смятения и растерянности. Он ударил по слабому месту в натуре этого порядочного человека. Он воззвал непосредственно к любви, испытываемой сэром Майклом Одли к своей жене.
Да поможет Бог нежной слабости сильного мужчины по отношению к женщине, которую он любит. Да сжалится над ним Господь, когда виновное создание, обманув его, бросается со своими слезами и горестными жалобами к его ногам в самозабвении и раскаянии, муча его видом своих страданий, надрывая сердце своими рыданиями, терзая его грудь своими стонами. Умножая свои собственные страдания до огромной муки, слишком тяжелой, чтобы перенести ее мужчине. Да простит его Господь, если сведенный с ума этим жестоким мучением, он нарушает на какой-то миг равновесие и готов простить все что угодно, готов принять это несчастное существо под защиту своих объятий и простить то, что мужская честь не велит ему прощать. Раскаяние жены, стоящей у порога дома, в который она больше не имеет права войти, не сравнится со страданиями мужа, закрывающего дверь перед этим дорогим умоляющим лицом. Мучение матери, которая никогда больше не увидит своих детей, – ничто по сравнению со страданиями отца, который должен сказать этим детям: «Мои маленькие, отныне вы сироты».
Сэр Майкл поднялся с кресла, дрожа от негодования, и готовый немедленно начать битву с особой, причинившей горе его жене.
– Люси, – промолвил он, – Люси, я настаиваю, чтобы ты рассказала мне, что или кто тебя расстроил. Я настаиваю на этом. Кто бы тебя ни огорчил, будет отвечать передо мной за твое горе. Ну же, моя любовь, рассказывай мне прямо, без утайки, в чем дело?
Он снова сел и склонился над поникшей фигурой у его ног, успокаивая собственное волнение желанием облегчить отчаяние жены.
– Скажи мне, в чем дело, дорогая? – нежно прошептал он.
Внезапный припадок прошел, и госпожа подняла голову: слезы в ее глазах мерцали слабым светом, и очертания ее хорошенького розового ротика, те тяжелые, жесткие складки, которые Роберт Одли видел на портрете, были отчетливо различимы в свете огня.
– Я такая глупая, – сказала она, – он и вправду чуть не довел меня до истерики.
– Кто, кто чуть не довел тебя до истерики?
– Ваш племянник – мистер Роберт Одли.
– Роберт! – вскричал баронет. – Люси, что ты хочешь сказать?
– Я говорила вам, что мистер Одли настоял на том, чтобы я пошла в липовую аллею, дорогой, – продолжала госпожа. – Он сказал, что хочет поговорить со мной, и я пошла, а он говорил такие ужасные вещи, что…
– Какие ужасные вещи, Люси?
Леди Одли содрогнулась и конвульсивно сжала своими пальчиками сильную руку, нежно гладящую ее по лицу.
– Что он сказал, Люси?
– О, мой дорогой, как я могу рассказать вам? – вскричала госпожа. – Я знаю, что расстрою вас или вы посмеетесь надо мной, и тогда…
– Посмеюсь над тобой? Нет, Люси.
Леди Одли на минутку умолкла. Она сидела, глядя перед собой невидящим взглядом, все еще сжимая руку мужа.
– Дорогой мой, – медленно заговорила она, запинаясь и с трудом подбирая слова, – вам никогда – я так боюсь рассердить вас – вам никогда не приходило в голову, что мистер Одли немного… немного…
– Немного что, дорогая?
– Немного не в себе, – запнулась леди Одли.
– Не в себе! – воскликнул сэр Майкл. – Моя дорогая девочка, что ты придумываешь?
– Вы только что сказали, дорогой, что он сошел с ума.
– Разве, любовь моя? – смеясь ответил баронет. – Не помню, чтобы я сказал это, ведь это просто так говорится, но ничего не значит само по себе. Может быть, Роберт немного эксцентричен, немного глуп, возможно, не очень отягощен умом, но не настолько, чтобы быть сумасшедшим.
– Но сумасшествие иногда передается по наследству, – возразила госпожа. – Мистер Одли мог унаследовать…
– Он не мог унаследовать безумие от семьи его отца, – перебил ее сэр Майкл. – Одли никогда не заселяли частные сумасшедшие дома и не платили таким врачам.
– А от семьи матери?
– Это мне неизвестно.
– Люди обычно держат такие вещи в тайне, – мрачно заметила госпожа. – Сумасшедшие могли быть в семье твоей золовки.
– Не думаю, дорогая. – ответил сэр Майкл. – Но, Люси, во имя бога, скажи мне, как это пришло тебе в голову?
– Я пытаюсь объяснить поведение вашего племянника. Иначе я не могу объяснить его. Если бы вы слышали, что он говорил мне сегодня вечером, сэр Майкл, вы бы тоже решили, что он безумен.
– Но что же он сказал, Люси?
– Даже не знаю, как ответить. Он так поразил и смутил меня. Мне кажется, он слишком долго жил совсем один в своих уединенных апартаментах в Темпле. Возможно, он слишком много читает или курит не в меру. Знаете, некоторые врачи считают сумасшествие простым заболеванием мозга, которому подвержен любой человек и которое вызывается определенными причинами и лечится определенными средствами.
Глаза леди Одли все еще были прикованы к горящим углям в широком камине. Она говорила так, как будто часто слышала рассуждения на эту тему, как будто мысль ее унеслась от племянника мужа к более широкому вопросу о безумии вообще.
– Почему бы ему не быть сумасшедшим? – сделала она вывод. – Люди бывают душевнобольными в течение многих лет, прежде чем обнаруживается их ненормальность. Они знают, что безумны, и знают, как держать это в тайне, и хранят свой секрет до самой смерти. Иногда их охватывает приступ, и в недобрый час они выдают себя. Возможно, совершают преступление. Накатывает ужасное искушение: нож в руке, ничего не подозревающая жертва рядом. Они могут усмирить беспокойного демона и уйти, и умереть, не запятнав себя насилием; но могут и поддаться соблазну – страшному, страстному, жаждущему желанию насилия и ужаса. Иногда они уступают, и тогда все кончено для них.
Леди Одли повысила голос, рассуждая на эту ужасную тему. Истерическое возбуждение, от которого она только что успокоилась, оставило на ней свой отпечаток, но она контролировала себя, и ее голос постепенно успокоился, когда она продолжила.