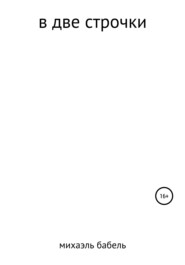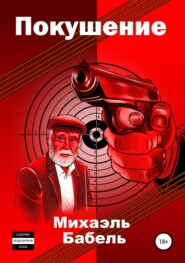По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С закрытыми глазами, или Неповиновение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всегда искал родную команду и родную национальную сборную. Всякие команды бывали, но не оказывалось там даже одного родного. И опять ни о чём не сожалел, только о незабитом голе. А родная национальная сборная оказалась похожей на баскетбольную "Макаби", и в ней ни одного родного. А я был в ней крайним правым.
И меня отчислили. И только тогда ко мне пришёл родной человек. Давно отчисленный. К нему никто не пришёл, когда его отчислили, но это не помешало ему прийти ко мне. И я пришёл к нему. Упал бы на колени и целовал его следы, если бы до них дотянуться. И не было сожаления, что так поздно. Не осталось даже единственного прежнего сожаления, что мяч чиркнул над верхней перекладиной ворот из срубленного молоденького деревца, – мечта о не состоявшемся, которая померкла перед состоявшимся родным человеком.
…Я спал в кресле возле Любимой и в ранние утренние часы открыл глаза. На её лице была кислородная маска, она тяжело дышала. Возле кислородного крана стояла медсестра отдела. После этого прошёл примерно час. Я встал проверить, как сидит маска на лице и какое давление кислорода. Увидел, что кислородный кран закрыт и шарик не "танцует". Голова и грудь жены тяжело поднимались и падали.
Побежал к медсестре, почти кричал в сонной тишине: "Ты закрыла кислородный кран!"
Она молчала, слова не проронила. Ждала от меня поступка, который суд квалифицирует, как хулиганский.
Рассказал дежурной за конторкой в коридоре, что сделала медсестра. Та посоветовала обратиться к старшей медсестре отдела.
Начал искать старшую, тут она и появилась. Рассказал и ей о случившемся и попросил принять мою жалобу. Её лицо выражало нежелание заниматься моим свидетельством.
В это время появился дежурный врач. Рассказал и ему о случившемся. Он пошёл в комнату медсестёр. А я спрашивал ещё кого-то, как мне подать жалобу в эти ранние часы. Подошёл ко мне дежурный врач, сказал, что он уже составил жалобу.
Письмо начальницы отдела обслуживания больного директору больницы: "В конце ухода по обслуживанию больной, медицинская сестра закрыла по ошибке кислородный кран вместо ингаляционного крана и немедленно с выходом из комнаты мужа, который показал ей на это, она возобновила подачу кислорода моментально".
Директор больницы: "Я извиняюсь за ошибку, которая, как сказано, исправлена и, как объяснено вам, не было в ней намерения подвергать опасности вашу жену. Происшествие расследовано и даны соответствующие указания".
Госконтролёр: "Ваше письмо мы перевели на обслуживание профессору <>, который проверит ваши претензии и ответит непосредственно вам".
Министер здоровья: "Группа обслуживания больного в отделе признаёт ошибку, которая сделана, когда кран кислорода был закрыт".
Та кэгэбэшня признала, что убила миллионы. Признала и дела помельче, например, попытку отравить писателя Войновича.
Эта кэгэбэшня не такая: не признала ни маленькое дельце, попытку убить Любимую, не признала и не признает, что убила тысячи.
А если попалась, называет убийства "ошибками". И защищает "ошибки" новыми убийствами.
А была не ошибка.
В ранние утренние часы больничной палаты я открыл глаза и увидел эту медсестру возле кислородного крана. Она застыла, не шевелилась. Мои открытые глаза она не видела, но раскладное кресло, на котором я спал, страшно скрипучее. Так она и стояла.
Я снова уснул и через час поднялся и подошёл к кислородному крану. Он был закрыт.
Нет, это не ошибка.
Я открыл кислород – установилось дыхание Любимой, начала успокаиваться.
Давно мучилась без кислорода.
Неделей раньше был вечер перед субботой. Темнело. Любимая дремала. Я сидел возле. На нашей половине палаты, возле двери, было тихо.
На второй половине, возле окна, было шумно. У соседки по палате были гости. Меня их шум не волновал, Любимая плохо слышит. Волновал меня свет. Две несильные лампы в потолке возле окна, предназначенные только для той половины палаты, уже горели, их свет не мешал, разделительная занавесь была почти до потолка. Но шумной кампании этого света будет мало, когда за окном станет темно. Они обязательно включат общий свет на всю палату.
Главными шумящими были молодая гостья соседки по палате, в юбке, короче которой бывает только пояс, и её муж с маленькой бородой из трёх тонких косичек, две по бокам и одна под губой. Просить у такой юбки и такой бороды?
Я сидел и ждал неизбежное. В палате темнело. У окна шумели без перерыва. Наступила суббота.
Короткая юбка зацокала весело на высоких и острых каблуках мимо нас к выключателю возле двери, и стало светло. Выключить свет можно, если он мешает больному. Я выключил и вернулся сидеть возле Любимой. У окна тоже стало тихо, как у нас около двери. Острые каблуки пошли снова, но уже не весело, а отсчитывая каждый шаг, готовые к бою. Снова стало светло.
Я сразу же поднялся, но играть в субботу в выключатель не мог. Вышел из палаты, подошёл к дежурной по коридору, спросил её, к кому обратиться с проблемой света. Сказала, что в шабат всё в руках людей охраны, а они сидят внизу.
С седьмого этажа пошёл вниз. Субботний лифт, по-моему, для больных. На мой стук в стеклянную дверь охраны выглянул русский человек. Рассказал ему о моей проблеме со светом. Он слушал меня и думал о своём, но сказал уверенно, что они этим займутся. И я поспешил пешком на свой седьмой этаж, чтобы успеть увидеть, как они этим займутся. На седьмом этаже было тихо, в палате горел яркий свет, который в шабат выглядит ярче, на той половине комнаты было шумно. Я покрутился сюда-туда, туда-сюда и пошёл вниз. На мой стук вышел другой русский. Сказал ему, что они обещали заняться. Он слушал меня и тоже думал о своём, но сказал тоже уверенно, что вот придёт начальник.
Я сел ждать в коридоре. Прошло время, и постучал в дверь. Из комнаты замахали руками, призывая к терпению. Сел ждать.
Вдруг в конце коридора появилась красавица южноамериканского карнавала, высокая, статная, грива до талии, шикарные бёдра обвешаны разным вооружением, голова, плечи, грудь в лентах и шнурках. Я к ней с нетерпением, а она ко мне с полным вниманием, что признал в ней начальство. Доложил ей быстро и чётко.
Она молча пошла к лифту, а я бросился к лестнице. Но как ни старался, а в широком проходе в палату встречала меня она. И не одна. Возле красавицы стоял сморчок, в гражданском и непонятной должности, немолодой и насупившийся. Ещё две медички были рядом. В проходе был выключатель. Я нажал на него и закрыл его спиной, что означало – только через меня.
В палате стало тихо и темно после яркого света. Передо мной в широком проходе стояли красавица и сморчок. У входа уже толпились арабы, хамула навещала своего из деревни в соседней палате, как они все там размещались – непостижимо, они молчали и только пялили глаза. Было тихо, и поэтому был слышен один возмущённый голос за спинами хамулы. Ещё один неизвестный, которого я никогда не видел в качестве посетителя за месяц моей жизни на этом этаже. А он, пригнувшись и подавшись вперёд, зажигал людей: требовал, чтобы меня оттащили от выключателя и хорошенько дали. Я поймал его глаза, чекистские, знакомые по той кэгэбэшне. В это время услышал, как сморчок шепчет красавице: "Вызови полицию! Вызови полицию!"
Прояснилось: "сморчок", "короткая юбка", "поджигатель" – такой порядок по их чекистским чинам.
Моё судебное "дело" перешло в руки красавицы.
Интересно, будет и её свидетельство.
Я не отводил глаз от красавицы. Она молча вышла в коридор, недовольный сморчок за ней. Толпа перед входом в палату рассосалась. Я стоял, прикрывая спиной выключатель. Вдруг увидел, что красавица и сморчок сидят за длинным столом для дежурных, который стоял напротив входа в палату, и смотрят на меня. Я долго стоял и, прикрывая выключатель, не мог смотреть на красавицу. Но вдруг увидел, что нет её. Чуть не заплакал, что нет моей красавицы.
В следующий субботний вечер, как обычно, сидел возле Любимой. Короткая юбка зацокала весело на высоких и острых каблуках ко мне. Как ни в чём не бывало, объявила, что её муж организовывает кидуш в телевизионной комнате, в конце коридора, и пригласила меня. Говорить с ней не хотелось. Через короткое время снова пригласила.
Какое неуважение!
Так по дешёвке освятить себя?
Нет, отравление не выберу.
А карательную медицину!
…Любимая просила в следующую субботу не приезжать, поберечь себя и я обещал.
Но уже вечером в субботу сожалел, что обещал, а после утренней молитвы пошёл к Любимой.
В субботу машины не идут сплошным потоком, как в будни. В субботу их движение похоже на автомобильные гонки в Монако, когда подтягиваются как бы нехотя к старту, выстраиваются плотно в несколько рядов, нетерпеливо газуют и на отмашку клетчатым флажком взрываются вперёд.
В субботу место старта у семафора. Растянувшиеся на шоссе машины собираются к семафору на долгий красный, потом на короткий жёлтый – внимание! и на зелёный – рвутся вперёд. Даже последняя не хочет отстать в бесшабашной субботней гонке до следующего семафора.
На этих монакских гонках встретится единственный зритель и любитель острых ощущений – когда ещё я буду в Монако?! – с чекистами, постоянными участниками гонок за мной.
Достать меня не проблема, только непринуждённо должно быть всё, как будто и не встречались.
Машины проносились волнами, шоссе гремело, напоминая будни, потом затихало по-субботнему до следующей волны.
Природа радовала сердце, приближающийся город не радовал.
Взрывной машинный поток пронёсся, до следующего заезда было время, на шоссе наступила короткая суббота. Невысокий забор окаймлял узкий тротуар, за ним обрыв в просторную низину, всю в зелени.