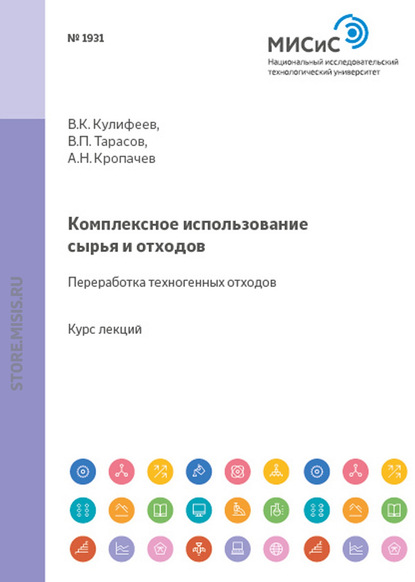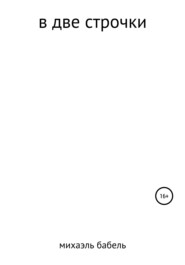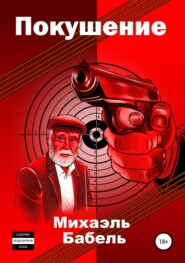По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мой Израиль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И летят перышки-листики от взмахов крыльями.
Они рождены новой главой моей жизни, потребовавшей от меня крыльев.
И, может быть, за этой главой моей жизни видится, что, как и у других людей, есть непреходящая глава их жизни – «моя Россия», «мой Дагестан», «моя Армения» и другие, – так и у моего народа есть непреходящая глава его жизни – «мой Израиль».
Вот и ещё один взмах крыльями – и ещё один листик полетит.
Может быть, впервые вышедший на необычную для себя тропу почувствует прелесть трудностей этой тропы и снова выйдет на нее, когда появится уже новая глава его жизни.
Для этого надо жить: посадить дерево на родной земле, положить камень в родную землю, утолить жажду тысячелетий из родника родной земли – надо жить.
А пока – непреходящая глава.
А пока, листик, лети.
Октябрь 1972
Каждый шаг по тропе приближает к вершине.
И однажды в конце очередного участка тропы подкрадывается вопрос: может быть, завтра вершина?
Может быть, и завтра.
И завтра какая-то неудовлетворенность – что-то большее ожидалось от вершины.
Но разве виновата вершина?
Какова тропа к вершине – такова и вершина.
Но все-таки, может быть, завтра?
И я смотрю на мою завтрашнюю вершину.
А вокруг – много взятых вершин. Много и повыше моей, только не каждый на взятой им вершине сложил пирамидку и оставил в ней записку.
Невысока моя вершина. Наверное, можно взять и большую. Но зачем?
Достиг высоты, чтобы лететь, – и летишь.
А главные наши вершины – впереди.
И будут браться вершины, пока хотя бы одна пара глаз будет торчать сквозь невысокую решётку, которую можно взять одним прыжком.
И будут лететь перышки-листики, рождённые взмахами новых подрастающих крыльев.
Перышки-листики будут лететь, потому что если не будут рождены взмахами крыльев, то будут вырваны из себя с кровью, – картина тропы моего народа, выполненная натуральными красками, и на расстоянии не видно грубых, шероховатых, грязных мазков, слившихся в благородную картину, и разговоры о качестве мазков мешают наслаждаться взволновавшей картиной.
И будут лететь перышки-листики, потому что, если потребуется, будут вырваны даже в крыльях те немногие оставшиеся ещё перья, без которых уже не долететь, – когда, если даже не выдергивать их, уже тогда непонятно, как это можно, и какой смысл, и зачем лететь кровавому месиву.
И наперекор подкрадывающемуся вопросу: может быть, завтра? – вперед по тропе! и да здравствует тропа!
А завтра обязательно будет, когда я оставлю записку в сложенной на взятой вершине пирамидке.
Но на вершину, если это вершина (а она будет вершиной, маленькой, но вершиной, а она всегда будет для меня маленькой, но моей), никогда не поднимешься один.
И напишу имена, а под ними припишу: «И всем хорошим книгам – шалом!»
И полечу.
И буду лететь над красивыми городами – самыми красивыми для тех, чьи эти города.
И буду запихивать в прошлое самые медленные секунды в моей жизни и отрывать ещё сцепленные с будущим.
Так где же мой самый красивый город? Я-то знаю, что самый красивый город – мой.
И вдруг.
Это почувствуется, я догадываюсь об этом, как никогда это не испытывавший может догадываться, что с ним так будет, потому что он такой, как все.
И скажу: здравствуй, Иерусалим, мы вернулись.
Но так, чтобы никто не услышал.
И будет день. Мы вернулись к своему берегу моря, которое среди всей земли.
И как раньше, так и теперь, и как у всех берегов, так и у нашего берега тихо движутся невидимые волны, и за каждой бежит по дну золотая полоска преломлённого волной света. Золотые полоски бегут одна за другой, и нет им конца.
За время нашего отсутствия на несколько сантиметров убавилось воды в нашем общем море, а может, прибавилось.
И как человек однажды вдруг пьянеет от сладости обычно неприметного и миллионы раз сделанного вдоха, так и нам откроется нашей жизни вечная мудрость.
Ноябрь 1972
Еще не время нового Флавия.
И в мире весна.
И праздник весны.
Есть на тропе участок – на каждой уважаемой тропе он есть, – подобного которому никогда не брал, с которым никогда не мерялся силой, а весь ты – сплошная боль.
Моя боль – мой Израиль.
Мой Израиль везде во мне.
Это моя сплошная боль.
С каждым шагом по тропе боль сильнее. Но и с каждым шагом улавливаю, как везде во мне, где моя боль, поется тихая песня, необычная, неясная, но знакомая, своя, родная.