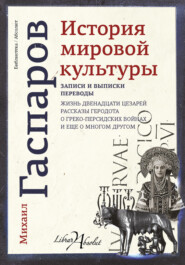По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима
Автор
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима
Михаил Леонович Гаспаров
Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей максимально полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. Гаспаров прежде всего знаменит своими античными штудиями, хотя сам он называл себя лишь «временно исполняющим обязанности филолога-классика в узком промежутке между теми, кто нас учил, и теми, кто пришел очень скоро после нас». Он также много занимался Средними веками и особенно много – переводил. Во втором томе собрания сочинений М. Л. Гаспарова представлены работы о литературе древнего Рима и о латинской литературе последующего периода, в основном средневековой. Они предназначались для изданий разного профиля и сами поэтому имеют разножанровый характер: панорамные картины больших историко-литературных периодов, тонкие портреты виднейших древнеримских поэтов, глубокие аналитические разборы отдельных произведений. Связывает обе части тома одна из главных для Гаспарова тем – история, содержание и судьба античной риторики, а также интерес к поэзии – от Катулла и Овидия к средневековым вагантам. В этом томе, как и в предыдущем, исследования М. Л. Гаспарова сопровождаются его художественными переводами, работа над которыми велась параллельно с научными изысканиями.
Михаил Леонович Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах Том II Рим После Рима
РИМ
О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ
ПОЭТ И ПОЭЗИЯ В РИМСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. М., 1997. С. 49–81. Впервые опубликовано в: Культура Древнего Рима: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1985. С. 300–335.
1
Поэзия в римской культуре прошла ускоренный путь развития. В IV веке до н. э. авторской поэзии в Риме еще не существовало, Рим жил устной, народной, безымянной словесностью; к I веку н. э. литературная авторская поэзия не только выделилась и оформилась, но и превратилась в такое замкнутое искусство для искусства, которое почти утратило практическую связь с другими формами общественной жизни. На такой переход потребовалось, стало быть, три столетия. В Греции подобный переход – от предгомеровской устной поэзии около IX века до н. э. до эллинистической книжной поэзии III века до н. э. – потребовал шести столетий, вдвое больше. Но главная разница в литературной эволюции Греции и Рима – не количественная. Главная разница в том, что римская поэзия с самых первых шагов оказывается под влиянием греческой поэзии, уже совершившей свой аналогичный круг развития, и черты, характерные для поздних этапов такого развития, появляются в римской поэзии уже на самых ранних ее этапах[1 - Различным аспектам такого своеобразия римской поэзии посвящена большая книга: Williams G. Tradition and originality in Roman poetry. Oxford, 1968 – интересное, хотя несколько хаотичное собрание интерпретаций стихотворений и отрывков римских поэтов I века до н. э.; к нашей теме ближе всего относится гл. 2 – The poet and the community. Ср. как бы дополнение к этой книге: Williams G. Change and Roman literature in the early Empire. Berkeley, 1978.].
Динамика литературы и искусства определяется в конечном счете тенденциями к интеграции и дифференциации общества, к его сплочению и его расслоению. В литературе и искусстве всегда сосуществуют формы, служащие тому и другому. Одни явления искусства приемлемы для всех (или хотя бы для многих) слоев общества и объединяют общество единством вкуса (которое иногда бывает не менее социально значимо, чем, например, единство веры). Другие явления в своем бытовании ограничены определенным общественным кругом, и они выделяют в обществе элитарную культуру и массовую культуру, а иногда и более сложные соотношения субкультур. Положение каждой формы в этой системе с течением времени меняется. Так, в греческой поэзии жанр эпиграммы, выработанный в элитарной элегической лирике VII–VI веков до н. э., в первые века нашей эры становится достоянием массовой поэзии полуграмотных эпитафий; и наоборот, жанр трагедии, оформившийся в VI–V веках из разнородных фольклорных элементов на почве массового культа аттического Диониса, через несколько веков становится книжной экзотикой, знакомой только образованному слою общества.
В греческой литературе доэллинистического периода поэзия, обслуживающая общество в целом, и поэзия, обслуживающая только верхний его слой, различались с полной ясностью. Поэзией, на которой сходилось единство вкуса целого общества, был, во-первых, гомеровский эпос (с IX–VIII веков), во-вторых, гимническая хоровая лирика (с VII века) и, в-третьих, только в Аттике, трагедия и комедия (с V века). Поэзией, которая выделяла из этого единства вкус социальной и культурной элиты, была лирика (элегия, ямб, монодическая мелика и такие жанры хоровой мелики, как энкомий и эпиникий). Конфликтов между этими системами вкуса, по-видимому, не возникало. Мы ничего не слышим, например, о том, чтобы в Афинах какой-то слой публики отвергал трагедию или комедию; и если Платон из своего утопического государства изгонял гомеровский эпос, то лишь во имя другой, столь же общеприемлемой литературной формы – гимнической лирики.
Только с наступлением эллинистической эпохи все меняется. Круг потребителей словесности из полисного становится общегреческим, формы передачи и потребления словесности из устных становятся книжными, все перечисленные литературные формы из достояния быта, обслуживающего настоящее, становятся достоянием школы, обслуживающей связь настоящего с прошлым. По одну сторону школы развивается поэзия нового быта, столь досадно малоизвестная нам, – новеллистические и анекдотические повествования, «эстрадная» лирика (гилародия, лисиодия и пр.), мимическая драма[2 - Ср.: Reich H. Der Mimus. Bd. I–II. Berlin, 1903 – сочинение фантастическое в подробностях, но до сих пор интересное в общих чертах: мощь того низового пласта словесности, к которому принадлежал мим, показана здесь хорошо.]. По другую сторону школы развивается элитарная поэзия каллимаховского типа, экспериментирующая с созданием искусственных новых литературных форм и оживлением малоупотребительных старых. Если до сих пор нарождение и изменение литературных жанров определялось в первую очередь внелитературными общественными потребностями (общегородских и кружковых сборищ, т. е. празднеств и пирушек), то теперь оно определяется иным: нуждами школы (которая тормозит тенденции к изменчивости и культивирует канон) и внутрилитературной игрой влияний, притяжений и отталкиваний (оторвавшейся от непосредственного контакта с потребителем). Такая картина остается характерной и для всей последующей истории поэзии в книжных культурах Европы.
Если сравнить с этой эволюцией социального бытования греческой поэзии эволюцию римской поэзии, то бросается в глаза резкое отличие. Постепенное накопление культурных ценностей, которое потом канонизируется школьной традицией как обязательное для всех, в Риме было нарушено ускорением темпа его культурной эволюции. Когда в III веке до н. э. Рим, не успев создать собственной школьной системы образования, перенял греческую, этим он как бы начал счет своей культурной истории с нуля. Между доблестной, но невежественной латинской древностью и просвещенной греческим светом, хотя и пошатнувшейся в нравах, современностью ощущается резкий разрыв, приходящийся на время I и II Пунических войн. Такое представление мы находим у Порция Лицина (конец II века до н. э.), а ко времени Горация оно уже непререкаемо (знаменитое «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила…» – «Послания», II, 1, 156). Школа греческого образца явилась не наследницей прошлого, а заемным средством для будущего[3 - О социальной роли античной школы см. классическую работу Marrou H. I. L’histoire de l’еducation dans l’antiquitе. Paris, 1948.]: она не осмысляла то, что и без того все знали, а насаждала то, чего еще никто не знал. Именно поэтому римская школа так легко принимала в программу произведения свежие, только что написанные: сперва «Летопись» Энния, потом «Энеиду» Вергилия. Такая школа не столько сплачивала общество, сколько размежевывала – противопоставляла массе, не прошедшей учения, элиту, прошедшую учение. (Такова, как известно, была роль греческой школы, выделявшей эллинизированную верхушку общества, и на эллинистическом Востоке.) Конечно, постепенно круг публики, прошедшей школу, все более и более расширялся, расплывался, и чем далее это шло, тем более школа приобретала свою естественную культурно-сплачивающую роль. Но это было долгим делом и завершилось разве что к концу I века н. э.
Опираясь на школу, римская поэзия распространяется в быт и низов, и верхов общества: эти два направления раздельны, как в эллинистической Греции. В римском быте издавна четко различались два сектора, две формы времяпрепровождения – «дело» и «досуг», negotium и otium: первый включал войну, земледелие и управление общиной, второй – все остальное[4 - Об этом основоположном для нашей темы понятии см.: Andrе J. L’otium dans la vie romaine. Paris, 1966; здесь прослеживается его история с древнейших времен до эпохи Августа.]. Почвой для поэзии стал именно «досуг». В Греции такой прочной связи поэзии с «досугом» мы не находим опять-таки до эпохи эллинизма: здесь слово ?????, «досуг» приобрело иное, дополнительное значение – «учение» (и перешло в латинский язык как ludus, «школа», буквально – «игра»). Удельный вес и формы проявления otium’a в римском быту менялись. Лишь постепенно, по мере повышения жизненного уровня в римском обществе для досуга освобождалось все больше места, причем, конечно, в первую очередь в высших, обеспеченных слоях общества. Соответственно с этим постепенно раскрывается римское общество и для поэзии. За долитературным периодом относительной однородности римской словесности следует сперва период формирования поэзии для масс, а потом – поэзии для образованной и обеспеченной верхушки общества: перед нами с самого начала – поэзия разобщенных культурных слоев, из которых каждый по-своему откликается на запросы римской действительности и опирается на материал, предоставляемый греческими предшественниками. Затем, в неповторимый, исторический момент перелома от Республики к Империи, запросы масс и запросы верхушки общества, обращенные к поэзии, совпадают: это – короткая полоса римской классики «золотого века», когда поэзия действительно объединяла, а не разъединяла общество. И наконец, после этого опять наступает разрыв, и поэзия досужего высшего общества продолжает существовать уже по инерции, как «поэзия для поэзии».
Таким образом, перед нами – знакомая периодизация истории римской литературы: эпоха устного творчества (примерно до 250 года до н. э.), «ранняя римская литература» (ок. 250 – ок. 150 гг. до н. э.), «литература эпохи гражданских войн» (ок. 150 – ок. 40 гг. до н. э.), «литература эпохи Августа» (ок. 40 года до н. э. – 15 год н. э.), «литература эпохи Империи» (примерно с 15 года н. э.). Нам предстоит лишь выделить для прослеживания наименее изученный аспект этой истории становления римской литературы.
2
В ранней римской словесности поэзия бытовала только устная и безымянная. Письменность фиксировала лишь деловую прозу: законы и жреческие летописи. Лирическая поэзия была целиком обрядовая (гимны богам, плачи по умершим) и как таковая казалась тоже не художественной, а деловой словесностью. Драматическая поэзия играла лишь подсобную роль при игровых представлениях: одни из этих представлений считались этрусского происхождения («фесценнины», от сельских обрядовых хоровых перебранок), другие – оскского («ателланы», от городских комических бытовых сценок), но история их затемнена домыслами позднейших грамматиков, реконструировавших ее по аналогии с историей греческой комедии. Эпическая поэзия была представлена загадочными застольными песнями «во славу предков», исполнявшимися то ли «скромными отроками» (Варрон у Нония, s. v. assa voce), то ли самими пирующими поочередно, т. е. уже по греческому обычаю (Катон у Цицерона, «Брут», 75); так как уже Катон не застал живой памяти о них, то можно считать, что за сто лет до его рождения, около 350 года, их уже не было в быту. Видно, что перед нами более архаический тип бытования песен, чем в гомеровской Греции: певец еще не специализировался, не отделился от слушателей, перед нами скорее Ахилл, который сам себе поет и играет на кифаре («Илиада», IX), чем Демодок, который поет и играет для слушателей, собравшихся на пиру («Одиссея», VII). Образ поэта в римской культуре еще не существует. Первым «писателем с именем» по традиции учебников считается Аппий Клавдий Слепой, которому приписывались «сентенции», «стихи» и даже «пифагорейское стихотворение», которое будто бы хвалил Панетий (Цицерон, «Тускуланские беседы», IV, 4; несомненно, это позднейшая тенденциозная атрибуция). Видимо, это только значит, что он первый стал собирать и редактировать народные дидактические пословицы в стихах.
Перед римской поэзией такого рода было несколько путей развития. Или здесь, как на древнем Востоке, вообще могло не произойти становления авторской поэзии, и словесность осталась бы безымянна и традиционна; или, как в Греции, соперничество аристократических группировок могло послужить толчком к развитию индивидуальной лирики, а потребности всенародных обрядов – к развитию хоровой лирики или драмы (ludi scaenici вошли в программу Римских игр еще в середине IV века). Не случилось ни того, ни другого. Римская культура в III веке до н. э. соприкоснулась с греческой культурой ближе, чем прежде, а в греческой культуре этого времени словесность уже расслоилась на элитарную, школьную и низовую. В таком виде она и оказывала решающее влияние на формирование общественного статуса поэзии в Риме. При этом в первую пору самым влиятельным оказался школьный пласт греческой культуры: здесь новые культурные ценности представали в наиболее устоявшемся, компактном виде, удобном для духовного импорта.
Греко-римские контакты были устойчивы и плодотворны задолго до III века. Посредниками были этруски, владевшие Римом в VI веке, и Кампания, ставшая римским владением в IV веке. В Риме писали письмом, развившимся из греческого, и молились богам, отождествленным с греческими, при Форуме находилось греческое подворье – Грекостасис. Но до поры до времени это были соседские контакты, не выходившие за пределы Италии: греческий мир как целое для Рима не существовал, о поездках и посольствах римлян даже в недалекую материковую Грецию мы почти ничего не слышим. Перемена наступила тогда, когда с Пирровой войной, завоеванием Южной Италии и первым подступом к греческим и карфагенским владениям в Сицилии Римское государство вышло на международную средиземноморскую арену. Здесь греческий язык был интернациональным – а вместе с ним и стоящая за ним греческая культура. Овладение ими стало делом международного римского престижа[5 - «Римские вожди приобретали превосходство уже тем, что они умели говорить по-гречески и думать по-гречески, тогда как греческим вождям нужны были переводчики, чтобы понимать по-латыни… Овладение иностранным языком означало победу римской власти. Даже Полибий и Посидоний не понимали этого и искали объяснения римских успехов в древних римских доблестях» (Momigliano A. Alien wisdom: the limits of hellenization. Cambridge, 1975. P. 38–39; здесь же большая библиография прежней литературы о греческом влиянии в Риме).]. Это значило, что такое овладение должно было быть, во-первых, основательным, во-вторых, системным, а в-третьих, так сказать, победительским – не с подобострастием ученика, а с высокомерием хозяина положения. Действительно, в развитии римской культуры III–II веков мы наблюдаем все эти черты, и некоторые из них очень существенны для положения римской поэзии.
Основательность овладения греческим языком и культурой видна из того, что в Риме появляются произведения, писанные римскими авторами на греческом языке, – труды Фабия Пиктора и других старших анналистов. Несомненно, к ним сильно прикладывали руку безымянные греческие секретари, однако в том, что эти книги не были переводами с латинской диктовки, а с самого начала писались на греческом языке, по-видимому, ни у кого не возникало сомнений. Это означало, что первые очерки римской истории писались не для римских читателей, а для греческих, точнее – для грекоязычных (как на Востоке книги Манефона и Бероса). Это была пропаганда международного масштаба, имевшая целью убедить политический мир Средиземноморья, что Рим с Энеевых времен принадлежит к его культурной общности. Так освоение греческой культуры с первых же шагов оказывалось освоением напоказ – не из внутренних потребностей римского правящего сословия, а для внешней демонстрации перед соседями.
Системность овладения греческим языком и культурой видна из того, что главным путем к ним стала школа. «Первый римский поэт», по устойчивому представлению античных и позднейших филологов, – это Ливий Андроник, грек из Тарента, раб, а потом вольноотпущенник в доме сенатора Ливия Салинатора (консула 219 года?), учитель его детей, переводчик «Одиссеи» сатурнийским стихом. Мы видим: сенаторские дети смолоду обучаются греческому языку, это порождает спрос на греков-учителей, по совместительству те берут на себя обучение и латинскому языку, переносят на него опыт преподавания греческого языка – чтение и толкование поэтических текстов, а для этого вынуждены сами готовить латинские поэтические тексты. Выбор текстов диктуется греческой школьной программой: Гомер давно перестал быть образцом для творческого подражания греческих поэтов III века, но в школьном преподавании он оставался альфой и омегой. «Одиссея» была предпочтена «Илиаде», несомненно, потому, что предмет ее должен был казаться ближе римскому читателю: странствия Одиссея, по мнению комментаторов, происходили в том самом Западном Средиземноморье, где теперь возвысился Рим.
Далее напрашивалась мысль по аналогии с греческим героическим эпосом создать римский героический эпос. Сходного фонда мифов о богах и героях у римлян не было, но им это представлялось меньшим препятствием, чем нам: миф переходил в историю незаметно, и предания об Энее, Ромуле и Муции Сцеволе, продолжая друг друга, казались таким же достойным эпическим материалом, как предания об Ахилле и Агамемноне. Так появляются первые оригинальные римские эпопеи: «Пуническая война» Невия (ок. 210 года до н. э.) и «Летопись» Энния (180–170?е годы), начинающие повествование с Энея и кончающие событиями своего времени. Ориентировка на Гомера вполне демонстративна и у Невия, и у Энния (с его нововведенным гексаметром и переводными гомеризмами в стиле). Оба поэта начинают воззваниями к Каменам-Музам, а Энний описывает затем вещий сон о том, как в него переселилась душа Гомера. (Идея такого пролога подсказана прологом Каллимаха к «Причинам»: Энний утверждает классическую поэтику эллинистическими средствами[6 - Эллинистическая выучка Энния – тема, все больше раскрываемая филологией XX века. Ср., например, главу «Энниевская традиция» в кн.: Newman J. К. Augustus and the new poetry. Bruxelles, 1967.].) Перед нами несомненная попытка искусственного создания «школьной классики»[7 - Так потом в эпоху романтизма иногда искусственно создавалась даже «народная классика», например в «Краледворской рукописи» или в «Калевипоэге» Крейцвальда.]. Действительно, «Одиссея» Ливия оставалась школьным чтением еще во времена молодости Горация («Послания», II, 1, 69), а Энний сам преподавал по своей «Летописи» (Светоний, «О грамматиках», 1), и еще о времени Августа Марциал пишет: «Энния, Рим, ты любил читать при жизни Марона…» (V, 10, 7).
Однако этим не исчерпываются общественные функции первых римских эпопей. Они не только сплачивали общество, но и размежевывали, выделяя воспеваемую социальную верхушку. Начинаясь с мифологических времен, эти поэмы ориентировались на школьный эпос, но, заканчиваясь событиями ближайшей современности, они ориентировались на панегирик. Панегирический жанр был знаком Риму и по речам над покойниками, и по защитительным апологиям в судах (реже в народных собраниях); теперь он облекался в стихи, рассчитанные уже не на время, а на вечность. Об Эннии мы знаем (Авл Геллий, XVII, 21), что он довел свою «Летопись» в 12 книгах до 196 года, а потом постепенно добавил к ней еще 6 книг – в частности, о победе своего покровителя М. Фульвия Нобилиора над этолийцами при Амбракии в 189 году, где он сам присутствовал в его свите; и знаем, что одно из его малых сочинений называлось «Сципион», а другое «Амбракия». Предполагается, что эта «Амбракия» была претекстой, трагедией на римскую тему; в этом малопопулярном жанре еще виднее раздвоение тематики между героико-мифологической и панегирической установкой – сохранившиеся заглавия относятся или к заведомо полусказочной древности («Ромул» Невия, «Сабинянки» Энния), или к только что одержанным победам (кроме «Амбракии» – «Кластидий» Невия). Легко представить, что в соперничестве этих двух установок все выгоды чем дальше, тем больше оказывались на стороне последней. О поэмах, посвященных римской древности, мы больше ничего не слышим вплоть до «Энеиды» («Летопись» написал трагик Акций, но содержание ее загадочно). Поэмы же, воспевающие очередные современные победы, продолжали усердно писаться: известно об «Истрийской войне» (129 год до н. э.) Гостия, о «Галльской войне» Фурия (то ли Фурия Анциата, конец II века до н. э., то ли Фурия Бибакула, середина I века до н. э.), о «Секванской войне» Варрона Атацинского (ок. 55 года до н. э.)[8 - Подавляющая часть римской поэзии, особенно ранней, до нас дошла лишь в упоминаниях и фрагментах (впервые научно изданных Э. Беренсом: Fragmenta poetarum Romanorum. Lipsiae, 1886); без них нельзя представить подлинной картины римской литературы. Ср.: Bardon H. La littеrature latine inconnue. Paris, 1952–1956. T. I–II.]. Так постепенно намечалась самая простая и грубая форма использования поэзии в римской общественной жизни: славословие событиям и лицам текущей политической истории, нечто вроде обязательных од, которыми откликалась на современность европейская (и русская) поэзия XVII–XVIII веков. Мы увидим, что к I веку до н. э. такая функция оказывается уже четко осознанной.
Круг публики, на которую рассчитывала такая панегирическая словесность, был, по-видимому, неширок. В школах продолжали держаться Ливия да Энния, вне школ спроса на поэтические книги, как кажется, еще вовсе не существовало: поэты писали, очевидно, лишь в угоду прославляемому покровителю (или прямо по его заказу). У панегирических стихов был, разумеется, и спутник – панегирик наизнанку, инвективные стихи; но в условиях римского общественного быта III–II веков до н. э. им труднее было существовать. История о том, как Невий пустил (в комедии?) знаменитый двусмысленный сценарий «(Злой) Рок дает Метеллов Риму в консулы», а Метеллы ответили не менее знаменитым недвусмысленным сатурнием «Будет взбучка поэту Невию от Метеллов», надолго запомнилась потомству. Время бурного расцвета политического срамословия в эпиграммах наступит лишь в пору гражданских войн, при Катулле и Кальве.
Третья особенность – то, что мы позволили себе назвать римским высокомерием в освоении греческой словесности, – больше всего выступает в отношении общественных верхов не к школе, а к сцене. Та же забота о международном престиже Рима, о которой говорилось выше, побуждала город и внешне приобрести облик, достойный мировой столицы. Рим обстраивается греческими храмами, учреждает новые празднества по греческому образцу, и в программе этих празднеств театральные представления занимают все больше места. Цель этого праздничного блеска двоякая: во-первых, поддержать славу новой столицы перед греческим миром и, во-вторых, ублажить широкие массы населения, утомленного тяжелыми войнами. Это был тот самый праздничный, публичный «досуг», о котором говорилось выше.
Ни о какой духовной эллинизации римской правящей знати еще нет и речи: греческий театр для нее не часть внутреннего мира, а лишь предмет роскоши, рассчитанный на иностранцев и чернь. Для себя аристократия сохраняет строгий древнеримский человеческий идеал, mos maiorum, в котором нет места греческим забавам. Вплоть до поколения Теренция и Сципиона Эмилиана мы не встречаем упоминаний о сенаторах не только как о сочинителях, но даже как о зрителях театральных представлений. Когда Риму понадобилось первое историческое сочинение, этим занялся сенатор Фабий Пиктор, но когда понадобилось первое сценическое представление не старинного этрусского, а новомодного греческого образца, оно было поручено вольноотпущеннику Ливию Андронику, и когда для умилостивительного моления Юноне Авентинской потребовалось сочинить новый гимн по образцу греческого парфения – дело гораздо более идеологически ответственное, но тоже зрелищного характера, – то и это сделал вольноотпущенник Ливий Андроник. Поэт выступает наемным исполнителем поручений эдила, устраивающего зрелище, не более того: актеры берут на себя игровую часть, поэт словесную, причем публика еще плохо понимает, что в словесной части можно и чего нельзя делать, и старший актер от своего лица объясняет ей в прологе что к чему (Амбивий Турпион в «Самоистязателе» Теренция). Первые слухи о том, что сенаторы снисходят до внимания к драматургии, стали распространяться лишь при Теренции и сразу выросли в скандальные преувеличения, дошедшие и до доверчивых грамматиков-биографов (знатные друзья помогают-де Теренцию сочинять комедии – «Самоистязатель», 25; «Братья», 15), а Теренций отвечал на них с очень кокетливой уклончивостью, понимая, как это должно усилить внимание публики к его произведениям.
Парадоксальным образом такое высокомерное отношение сенаторских верхов к новым формам поэзии оказалось решающе важным для всего последующего расцвета римской литературы: благодаря ему она развилась как литература на латинском языке[9 - Ср.: Аверинцев С. С. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.]. В самом деле, если бы греческое влияние в Риме утвердилось сразу как аристократическая мода, то римские писатели, скорее всего, с самого начала стали бы писать на готовом греческом литературном языке – как 400 лет спустя писали по-гречески и сириец Лукиан, и римлянин Элиан. Но сценические жанры, обращенные к широкой публике, не знающей греческого языка, поневоле должны были пользоваться латинским языком, доводя его до литературности, и когда на следующем этапе литературной истории римские сенаторы сами снизошли до поэтических занятий, они уже располагали для этого достаточно разработанным латинским литературным языком.
Другой парадокс заключался в том, что массовыми жанрами ранней римской сцены оказались те, которые в самой Греции уже перестали быть массовыми и сценическими, а остались лишь школьными и книжными – трагедия и комедия. В самом деле, греческая Новая комедия заканчивает свой цикл развития примерно к 250 году до н. э. (как раз к тому времени, когда первые драмы появляются в Риме), а греческая трагедия перестает развиваться еще раньше, оставаясь лишь экспериментальной забавой «плеяды» александрийских книжников (Ликофрон, Александр Этолийский и др.) и им подобных. Разумеется, и трагедии, и комедии классиков продолжают время от времени ставиться на сцене, однако основу репертуара составляют уже не они, а различные формы мима. Рим переходит к такому репертуару лишь через полтора столетия. Отчасти это – естественное отставание молодой культуры, поспевающей за своим меняющимся образцом, отчасти же – просто недостаток культурных сил в раннем Риме. Ливию Андронику приходилось одновременно быть и учителем сенаторских детей, и стихотворцем, и актером в собственных пьесах (Ливий, VII, 2); Эннию – и учителем, и стихотворцем; Плавту – и стихотворцем, и актером[10 - Было бы любопытно узнать, не намечалось ли здесь расхождение между «литераторской драматургией» и «актерской драматургией», не раз возникавшее в других театральных культурах, например в английской елизаветинской драме; общее впечатление говорит за это, но, конечно, достаточными сведениями мы не располагаем.]. Таким образом, школьное и сценическое освоение греческой поэзии скрещивались: из драматических жанров на сцену попадали прежде всего те, которые были апробированы школой, – происходила, так сказать, сценическая реанимация литературной драмы.
Это давалось не без труда: греческая драма, попадая на римскую сцену, должна была перестраиваться для удобства восприятия неподготовленной римской публики. Сюжеты греческой трагедии и комедии были для римской театральной толпы материалом незнакомым и необычным: мир греческих драм воспринимался римлянином как далекая экзотика. Фон трагических мифов, где для грека каждое имя и название было окружено ореолом ассоциаций, был для римского зрителя неопределенным «тридесятым царством»: римляне смотрели на трагедии о Персее и Агамемноне, как смотрели бы греки на представления об ассирийских царях. Фон комедийных ситуаций с их традиционными фигурами хитрых рабов, изящных гетер, ученых поваров и льстивых параситов казался жителю полукрестьянского Рима таким же экзотичным, а комедиографы еще более подчеркивают условность этого мира («здесь, в Греции, так водится…»), оттеняя ее мелкими римскими реалиями – упоминаниями о римских обычаях, римских чиновниках и пр. Привычку к новым жанрам приходилось поддерживать сравнительно однородным материалом, поэтому тематика римских трагедий значительно однообразнее, чем греческих: почти половина известных сюжетов принадлежит к циклу мифов о Троянской войне и о судьбе Атридов (несомненно, в память о троянском происхождении римского народа). Можно думать, что здесь, в трагедиях, пошла в ход практика контаминации: имея перед собой несколько греческих пьес на один и тот же сюжет, римский драматург легко мог соблазниться перенести эффектную сцену из «Электры» Софокла в «Электру» Еврипида и пр.; а потом уже эта практика могла перейти в менее податливые комедийные сюжеты. Цель, по-видимому, всегда была одна: усилить, утрировать трагизм и комизм греческих образцов, чтобы они вызывали у публики не недоумение, а должную скорбь или смех.
В целом вкус римской театральной публики[11 - О римской публике трех эпох (Республика, время Августа, Ранняя Империя), театральной и литературной, см.: Guillemin А. М. Le public et la vie littеraire a` Rome. Paris, 1937.] не пользовался хорошей славой: твердо считалось, что трагедии он предпочитает комедию (это обыгрывается Плавтом в прологе к «Амфитриону», которого он называет «трагикомедией»), а комедии – гладиаторский бой или упражнения канатоходцев (об этом свидетельствует Теренций в прологе к «Свекрови», которая дважды проваливалась, не выдержав такого соперничества). Конечно, в этом образе есть преувеличение: в тех же прологах Теренция на суд публики выносятся весьма тонкие литературные споры, сюжет строится гораздо сложнее и богаче неожиданностями, чем у Плавта, – видимо, театральный опыт, накопившийся за поколение между Плавтом и Теренцием, много дал не только авторам, но и зрителям. Однако еще при Августе Гораций, объясняя бесперспективность драматических жанров («Послания», II, 1), ссылается на то, что народ требует от них только зрелищного эффекта: от комедий – драк (ср. рассказ Полибия, XXX, 14, о преторе Аниции, современнике Теренция), а от трагедий – пышных триумфальных шествий. Другой крайностью народного вкуса был, по-видимому, растущий спрос на дидактическую сентенциозную мудрость[12 - См.: Kroll W. Studien zum Verst?ndnis der r?mischen Literatur. Stuttgart, 1924. Kap. 4; Williams G. Tradition and originality… Ch. 9. Moralizing and poetry.]: можно думать, что этим объяснялась (несомненная все же) популярность Теренция и что именно это породило на следующем этапе такое странное явление, как мимы Публилия Сира, по сюжетам, по-видимому, не отличавшиеся от массовой продукции этого жанра, но насыщенные таким множеством нравственных сентенций (одностишиями, в подражание Менандру), что из них составлялись целые сборники, в искаженном виде дошедшие и до нас.
Общей чертой всех этих подходов к литературе в III–II веках до н. э. было то, что общественное положение поэта оказывалось приниженным. В греческой полисной культуре поэт-сочинитель (в отличие от аэда и рапсода) не был профессионалом, песни в застольях и афинские драматические представления были, в терминологии нашего времени, «самодеятельностью»[13 - Как известно, этот аспект усиленно подчеркивался советскими теоретиками в пору опытов театрального обновления 1920?х годов. См.: Гвоздев А. А., Пиотровский А. И. История европейского театра: Античный театр, театр эпохи феодализма. М.; Л., 1931.]: известная автоэпитафия Эсхила (AP, App, II, 17, Куньи) упоминает его доблесть при Марафоне, но не упоминает его поэтических заслуг. Наемнический профессионализм поэта намечается в истории греческой культуры лишь дважды: при дворах тираннов V–IV веков (вспомним пародический образ поэта-попрошайки в «Птицах» Аристофана, 904–952) и при дворах эллинистических царей с III века; но и то, к нашему удивлению, в эллинистических эпиграммах доримского времени мы не находим насмешек над двойственностью положения поэта, друга богов и раба своих покровителей.
В Риме же поэт появляется сразу профессионалом, сразу пришельцем и, соответственно, лицом низкого социального статуса. Вольноотпущенниками были Ливий Андроник, Цецилий Стаций, Теренций Афр, потом Публилий Сир; сыном вольноотпущенника был трагик Акций; из нелатинских окраин происходили Невий (с его «кампанской гордыней»), Плавт (из апеннинской Умбрии), Энний (из Калабрии, говоривший, что у него «три души» – греческий язык, оскский и латинский) с его племянником Пакувием. Им, выходцам из смешанного населения, легче было стать посредниками между римской и греческой культурой. Поэты и актеры считались ремесленниками, обслуживающими сценические представления, и были организованы в «коллегию писцов и лицедеев» (Фест, 333) при авентинском храме Минервы – «в память Ливия (Андроника), который и сочинял пьесы, и играл», поясняет Фест. Об этой коллегии упоминается и позднее, в эпоху трагика Акция (Валерий Максим, III, 7, 11) и, по-видимому, в эпоху Горация («Сатиры», 1, 10, 36); судя по этим упоминаниям, она по-прежнему объединяла преимущественно драматургов и к создателям «большой литературы» отношения не имела.
Интонации обращений поэтов к публике соответствуют такому их общественному положению: они заискивают и смотрят снизу вверх. Плавт старается ввернуть в свои прологи комплимент победоносному римскому народу («Касина», «Канат», «Амфитрион»); Теренций, сводя литературные счеты, приглашает зрителей быть верховными судьями; Энний в «Сципионе» обращается к адресату «О непобедимый Сципион!» и «Какую статую, какую колонну воздвигнет римский народ, чтобы возвестить о твоих подвигах, Публий?» (фр. 475–476, Беренс). На фоне такого реального положения поэтов в обществе парадоксально звучит традиционный величаво-жреческий тон их эпических зачинов (почти как у пародийного аристофановского поэта), когда и Невий, и Энний начинают свои поэмы по гомеровскому образцу обращением к Каменам-Музам[14 - История самоощущения римских поэтов и отношения поэта к обществу – главный предмет классической статьи: Klingner F. Dichter und Dichtkunst im alten Rom // Klingner F. R?mische Geisteswelt. 3. Aufl. Munchen, 1956. S. 142–172. Вторая сторона темы, отношение общества к поэту, прослеживается Клингнером более бегло.]. (Это любопытное наслоение противоречивых традиций: когда Энний рассказывает, что в него переселилась Гомерова душа, то он подражает прологу Каллимаха к его «Причинам», как Каллимах, в свою очередь, прологу Гесиода к «Феогонии»; но Энний это делает во славу Гомера, Гесиоду и Каллимаху враждебного, и подкрепляет авторитетом Пифагора, Каллимаху, по-видимому, безразличного.) Такое самовеличание поэта-клиента выглядит театральной ролью, разыгрываемой в угоду покровителю и заказчику: разница между комедией для массового зрителя, панегириком для знатного покровителя и эпосом для школьной пропаганды оказывается не столь уже велика.
3
Новый период развития римской поэзии начинается приблизительно с поколения Сципиона Эмилиана и Лелия, около 150 года, и продолжается до времени Юлия Цезаря. Это время, когда общественные верхи перестают быть высокомерными распорядителями чуждой им поэтической культуры и становятся усердными ее потребителями и осторожными подражателями. Римская сенатская аристократия впервые видит в греческой культуре ценность для себя, а не для других, средство внутреннего совершенствования, а не внешнего блеска. Конфликт начала II века между Катоном, по-прежнему считавшим, что у греков нужно учиться практическому опыту, но без идейных компромиссов («прочитывать, но не зазубривать» их сочинения. – Плиний Старший, XXIX, 14), и Сципионом Старшим, который своим поведением, аффектировавшим героическое благородство и подражавшим Александру Македонскому, утверждал новый для Рима гуманизированный человеческий идеал, – этот конфликт был решен следующими поколениями в пользу Сципиона.
Греческий язык и знакомство с образцами греческой словесности стали почти обязательны для римского сенатора: Гай Марий, не знавший по-гречески, был в своем поколении уже не правилом, а (отчасти демонстративным) исключением. Грамматические школы с обучением греческому языку, по-видимому, перестают быть редкостью, и грамматики ведут занятия не на дому у своих сенаторов-покровителей, а в собственных училищах: не учителя идут к ученикам, а ученики стекаются к учителям. Вслед за школами с обучением греческому языку появляются школы с обучением латинскому языку (Л. Плотий Галл, конец II века) и уже в следующем поколении укрепляются настолько, что Элий Стилон, начинатель латинской филологии, ведет в своей школе не только учебную, но и научную работу. Продолжением грамматических школ становятся риторические, обучающие не пассивному, а активному владению греческим выразительным словом; вслед за греческими риторическими школами опять-таки появляются латинские и уже к 92 году укрепляются так, что цензоры Л. Красс и Гн. Агенобарб запрещают их безрезультатным эдиктом (Светоний, «О грамматиках», 25). (Это был эпизод общественной борьбы: в сенаторском сословии владение приемами красноречия было наследственным опытом, поднимавшиеся в гражданских войнах новые общественные слои овладевали ими в школах, этого и пытались их лишить.)
В целом можно считать, что сенаторское сословие и верхний слой всаднического уже представляют собой читающую публику, готовую для восприятия греческой книжной словесности и латинской, складывающейся по греческому образцу. Латинская проза – красноречие, историография, популярно-научная и популярно-философская литература – переживает при Цицероне общеизвестный расцвет, почвой для которого явилась именно эта публика, уже не только слушающая, но и читающая. До Цицерона книжное дело в Риме обслуживало только школу – при Цицероне появляется Аттик, в книжной мастерской которого (Непот, «Аттик», 13) переписываются на продажу сочинения Цицерона и других злободневных прозаиков; а за Аттиком следуют и другие[15 - Основополагающими трудами о книге в античной жизни остаются: Birt Th. Das antike Buchwesen in seinem Verh?ltnis zur Literatur. Berlin, 1882; Idem. Das Buchrolle in der Kunst. Leipzig, 1907; ср.: Борухович В. Г. В мире античных свитков. Саратов, 1976. Гл. 10.]. Это значит, что «естественная» в эпоху рукописных книг форма распространения текстов, когда каждый переписывал заинтересовавшую его книгу сам для себя, частично уступает место более рискованной, рассчитанной на достаточно обеспеченный общественный спрос. В следующем поколении Гораций будет говорить о литературной роли книжных лавок как о вещи общеизвестной («Послания», I, 20, 2; «Поэтика», 373). Но покамест речь шла о жанрах, как бы дозволенных для образованного сенатора и прежде. Место поэзии в этом литературном оживлении было несколько иным.
Основным культурным событием новой эпохи было освоение досуга (otium) в частном быту. С повышением жизненного уровня в римском обществе «досуга» у человека становилось все больше. Традиционным заполнением этого вакуума было расслабление в застольных и иных забавах. Новым способом заполнения досуга стало чтение, размышление и беседы на нравственные темы: уже Сципион Старший будто бы говорил, что он «на досуге меньше всего бывает досужим» (nunquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus. – Цицерон, «Об обязанностях», III, 1). В этом досуге вырабатывались две новые категории, дополнявшие традиционную систему ценностей римской идеологии (pietas, fides, gravitas, constantia…), – humanitas и urbanitas. «Человечность», humanitas, была свойством внутренним, воспитывалась раздумьями и попытками познать себя и ближнего; «столичность», urbanitas, была свойством внешним – обходительностью, изяществом, остроумием, она воспитывалась чутьем и опытом, и одним из пособий в этом самовоспитании была поэзия. Красноречие и историография как литературная форма аристократического negotium’a допустили рядом с собою поэзию как литературную форму аристократического otium’a.
Важно и то, что после покорения Македонии, Греции и установления римского контроля над эллинистическими государствами контакт римлян с греческой словесностью стал более непосредственным. Теперь это были не только уроки школы с ее отстоем культуры прошлого, но и прямые впечатления от культуры настоящего – от александрийской ученой и светской поэзии для образованных верхов, от эстрадных мимодий и мимологий для необразованной массы. И то и другое воспринимались особенно живо, потому что и на римской культурной почве разрыв между более досужими общественными верхами и по-прежнему недосужей полуобразованной массой стал сильнее. Это было одним из проявлений морально-политического кризиса: разрушалось то ощущение единства свободного гражданства, которым держался Рим в раннереспубликанскую эпоху и отчасти еще в эпоху больших завоеваний. Трагедии Энния и комедии Плавта еще могли иметь успех у всех слоев зрителей, но уже комедии Теренция встречали живую поддержку в кружке Сципионов и холодный прием у театральной толпы. В предыдущем периоде перед нами был народ, свысока питаемый импортной драмой по греческому образцу, и сенатское сословие, с виду блюдущее староримскую чистоту вкуса; теперь перед нами народ живет все той же словесностью, но сенатское сословие начинает вырабатывать себе свою собственную, и это разделяет их как никогда прежде.
Поэзией для массы остается поэзия сценическая: трагедия и комедия. Трагедия, менее популярная в массах с самого начала, к концу нашего периода вовсе сходит на нет, а перед этим долгое время держится только талантом последнего римского трагедиографа Луция Акция. В области же комедии перед нами проходит быстрая смена господствующих жанров: комедию-паллиату, переводную с греческого (ок. 235 – ок. 160) оттесняет комедия-тогата на специфически римском материале (ок. 160 – ок. 75), с тогатой соперничает литературная ателлана (ок. 100 – ок. 75), а их обеих вытесняет мим (к 50?м годам до н. э. – почти безраздельно). Памятники этих жанров сохранились лишь в мелких отрывках, сюжеты во всех разрабатывались, как кажется, очень похожие, поэтому представить себе смысл такой эволюции трудно. Видна лишь основная тенденция: комедия освобождается от литературных форм, навязанных школой, и возвращается к более простым и народным. Условно-греческий материал и заемно-греческая форма паллиаты уступают место латинскому материалу тогаты и италийской форме ателланы с ее четырьмя стандартными масками; а затем и то, и другое растворяется в миме, поэтика которого вовсе интернациональна и полуфольклорна. Тот же путь и в той же обстановке социально-культурной поляризации был проделан прежде, в эпоху эллинизма, и греческой комедией, от аттической «новой» вернувшейся к миму доаттического образца. Влияние этого греческого мима на латинский (не через книги, а через непосредственные зрительские впечатления римлян и через опыт сценических дел мастеров, вывозимых из греческих стран в Рим) не подлежит сомнению. Судя по скудным отрывкам эллинистических мимов, форма их сценариев воспринималась как нелитературная, как сырой материал для сценической игры; видимо, таков был и римский мим, несколько веков существования которого оставили нам ничтожно мало отрывков. То, что сохранилось (не считая сентенций Публилия Сира), – это почти исключительно тексты Децима Лаберия (время Цезаря) – видимо, этот автор пытался вновь возвысить мим до литературной поэзии, но остался одинок, и Гораций («Сатиры», I, 10, 6) отказывается считать его мимы за поэзию.
Поэзией не для массы и не для образованных сословий оказывается поэзия эпическая. Школа в ней больше не нуждается: она имеет своих Ливия и Энния, и чем они становятся старше, тем дороже. Сенаторы же, к которым эпос обращается своей панегирической стороной, хотя и принимали благосклонно поэмы вроде «Истрийской войны» и «Галльской войны», хотя и побуждали греческих клиентов сочинять такие поэмы даже для внеримских читателей (как Цицерон – Архия), хотя и сами сочиняли поэмы себе в честь (как тот же Цицерон – «О своем консульстве»), однако все это не обеспечивало жанр читателями. Видимо, дальше прославляемого дома эти поэмы не шли и рассматривались свысока (как подносная «шинельная поэзия» в России XIX века). Монументальный эпос на некоторое время перестает быть жизненной формой римской поэзии и продолжает существовать только по традиции.
Поэзией для образованных сословий становится новый в Риме жанр – сатура (сатира). Первые образцы его предложил все тот же неутомимый новатор Энний: создавая монументальную «Летопись» как памятник римского negotium’a, он одновременно сочинял и сатуры как пособие для римского otium’a. Переломом, однако, стало в следующем поколении творчество Луцилия: он первым сосредоточился исключительно на жанре сатур, превратив этот otium в свой negotium. Примечательно, что первым же вопросом, вставшим при появлении нового жанра, стала проблема читателя: для кого сочиняет Луцилий, если не для школы и не для сцены? Луцилий отвечает: для читателей книг, но не для самых ученых и деловитых, а для средних, общеобразованных (фр. 588–596 из ранней XXVI книги: «Не хочу, чтобы читал меня Персий, – пусть читает Децим Лелий» или, в другом варианте, «Юлий Конг»; имена эти, к сожалению, говорят нам меньше, чем говорили первым читателям).
Главная новизна сатуры состояла в том, что negotium был делом общим и строил литературные произведения вокруг общепринятых тем и идей, a otium был делом личным и строил произведения вокруг индивидуальных ассоциаций. Поэт представал не как временное воплощение вечного жанра (так Гомер и его перевоплощение – Энний были лишь олицетворением эпоса), а как творец, на глазах у читателей создающий из текучей неопределенности неканонизованного материала произведение нового жанра. Такой образ поэта включал не только «божественный дух и уста, вещающие великое» (Гораций, «Сатиры», I, 4, 44), но и все подробности его характера, облика и жизни: именно этим запомнился Луцилий своим читателям («он поверял свои тайны книгам, как верным друзьям… поэтому жизнь старика представала в них воочию, словно на картине, посвящаемой богам». – Там же, II, 1, 30–34). Образцом для Энния и Луцилия при создании римской сатиры был эллинистический жанр «смеси» (????????, ??????, ?????), развившийся в результате перенесения в поэзию опыта прозаических диалогов и диатриб с их нарочитой прихотливостью диалектического движения мысли[16 - Эллинистическое происхождение римской сатиры (вопреки знаменитым квинтилиановским словам satura tota nostra est) общепризнано после работы: Puelma Piwonka М. Lucilius und Kallimachos. Frankfurt am Main, 1949.]; в «высокой» эллинистической литературе этот жанр был представлен «Ямбами» Каллимаха, в низовой – диатрибами Мениппа Гадарского (в следующем после Луцилия поколении ученый Варрон в педантическом эксперименте попытался воспроизвести даже форму этих «Менипповых сатир» – смесь прозы и стихов); но, как кажется, такой яркой демонстративности организующего образа автора в этих греческих образцах не было. Она появляется лишь в римской сатире, и появляется потому, что здесь ее опорой служит утверждение в поэзии голоса индивидуального «досуга» рядом (и в противовес) с голосом общественного «дела».
Греческая поэтическая диатриба с ее текучей аморфностью не была канонизованным жанром словесности – наоборот, она своим существованием как бы оттеняла твердость и устойчивость канонизованных жанров. Римляне с нею познакомились, конечно, не через школу, а через непосредственный контакт с современным греческим литературным бытом. При этом историческое место диатрибы в развитии греческой словесности и сатуры в развитии римской оказалось совсем различным. Эллинистическая диатриба была в основе своей пародична: это была смесь элементов, заимствованных из жанров, уже прошедших большой путь развития и начинающих окостеневать или разлагаться. Римская же сатура была смесью элементов таких жанров, которые еще были неизвестны в Риме и развитие которых на римской почве было еще в будущем. Поэтому эллинистическая диатриба не имела, по существу, дальнейшего развития: в стихотворной форме она скоро отмерла, а в прозе она сохраняла свою жанровую аморфность почти неизменной вплоть до конца античности.
Римская же сатура стала истоком сразу нескольких новых в Риме поэтических жанров: дидактические и литературно-полемические мотивы выделились в жанр дидактической поэмы (начиная с «Гедифагетики» Энния, затем переходя к все более серьезному материалу в историко-литературных поэмах Порция Лицина и Акция, и наконец, скрестившись в высоком эпосе Лукреция с «ученой поэмой», о которой речь дальше). Любовные и автобиографические мотивы выделились в лирические жанры («преднеотерическая» поэзия Левия и кружка Лутация Катула). А то, что осталось, т. е. популярно-этические рассуждения с критикой современных нравов, образовало новый жанр, достаточно четкий и по содержанию, и по форме, – классическую стихотворную сатиру Горация, Персия и Ювенала.
Из всех этих новых литературных форм наиболее важными для самоопределения поэзии в системе римской культуры были формы лирические: в них индивидуалистическая окраска «досужего» мира выступала еще определеннее, чем в сатуре. Эти лирические формы складывались опять-таки под влиянием греческой поэзии, и опять-таки не классической, усваиваемой через школу, а живой, усваиваемой через непосредственный контакт. Здесь было два пути влияния. На уровне «высокой» поэзии это было освоение жанра эпиграммы: не входя в школьный канон, он ощущался достаточно традиционным и в то же время изысканным и светским. В римской поэзии на нем сосредоточились Лутаций Катул, Валерий Эдитуй, отчасти Порций Лицин (а до них – все тот же Энний в знаменитой автоэпитафии), иногда называемые, достаточно условно, «поэтами кружка Лутация Катула». На уровне низовой поэзии это было освоение неведомых нам александрийских эстрадных песен, лирических и эротико-мифологических; в римской поэзии на этом сосредоточился Левий, чьи отрывки «Эротопегний» обнаруживают удивительное разнообразие неуклюже-песенных размеров и манерно-нежного стиля; а потом едва ли не отсюда пошла мода на любимый неотериками 11-сложный фалекиев размер, в книжной греческой поэзии довольно редкий. Обе эти струи сливаются на исходе нашего периода в творчестве неотериков: в корпусе Катулла фалекии (среди других полиметров) составляют начальный раздел, эпиграммы – заключительный раздел, и поэтика их очень различна: эмоционально-рефренная в первом случае, рассудочно-пуантная во втором (что особенно видно, когда в полиметрах и эпиграммах разрабатываются одни и те же темы)[17 - Эта резкая разница поэтики «полиметрического» и «эпиграмматического» Катулла все больше проясняется после работы: Weinreich О. Die Distichen des Catull. T?bingen, 1926.].
Наряду с этой разработкой новых лирических жанров поэзия образованной элиты переосмысляет старые, эпические. Если прежние анналистические поэмы писались для пропаганды в массах и для угождения знатным покровителям, то теперь досужие аристократы сочиняют маленькие мифологические и дидактические поэмы (опять-таки по александрийским образцам), не имеющие никакого отношения к res romana (это не negotium, a otium!) и предназначенные лишь для щегольства собственной ученостью и вкусом в кругу равных ценителей. Мифология давно разрабатывалась в римской поэзии (на ней держался жанр трагедии), но до сих пор эти произведения рассчитывались на публику, не читавшую греческих образцов, а теперь – именно на тех, кто может оценить точность передачи или изящество отклонения от подлинника. Противопоставление нового эпоса старому было программным: когда Катулл (№ 95) прославляет «Смирну» своего друга Цинны, то не упускает случая попутно выбранить поэта-анналиста Волузия и припомнить александрийскую неприязнь к большому эпосу Антимаха. Не обходилось без неувязок: культ аристократической небрежности импровизированных «безделок» (Катулл, № 50) не согласовывался с культом ученой усидчивости над трудными поэмами, и стихотворцам приходилось менять маску на ходу. Новомодным эпосом развлекались не только такие откровенные эстеты, как Катулл и Цинна с их друзьями: Цицерон, порицатель этих «подголосков Евфориона» («Тускуланские беседы», III, 45), в молодости написал и «Главка», и «Альциону», и перевод Арата, высоко почитаемого в Александрии.
Новомодный эпос не обязательно был сжат и темен: к его потоку принадлежали и перевод «Аргонавтики» Варрона Атацинского, и даже, возможно, перевод «Илиады» Матия. Крупнейшим художественным достижением в этой области осталась поэма Лукреция «О природе вещей»: ее дидактическое содержание подсказано эллинистической модой, ее языкотворческие эксперименты – вполне в духе современников-неотериков, круг ее читателей – заведомо узкий и избранный, посвятительные обращения к Меммию свободны от клиентской комплиментарности, а исключительной силы пафос, не имеющий равных в греческой поэзии, – это пафос отвращения к общественной жизни, эпикурейского ухода от negotium к otium. Парадокс: эпикурейство больше всего убеждало избегать страстей, а Лукреций проповедовал его в поэме со страстностью, которая стала знаменитой. Это – от несовпадения культурных традиций: в философии его образцом был Эпикур, а в поэзии – старый Эмпедокл, в Греции почти забытый.
В предыдущем периоде существования римской поэзии она не была включена в житейские темы: ни историко-героический эпос для школы, ни мифологические и вымышленные сюжеты для сцены не имели никаких точек соприкосновения с повседневной римской действительностью. Только освоение «досуга» позволило ей обратиться к современному римскому материалу во всей его широте. Но оно же придало этому обращению известную односторонность – «досуг» противополагался «делу», и поэзия досуга оказывалась критической по отношению к «делу». Греческая эллинистическая поэзия в подавляющем большинстве образцов была безмятежной; подражающая ей римская поэзия II–I веков – вызывающе воинствующей. Сатира с самого начала берет своим материалом худые стороны человеческой (т. е. общественной) жизни: «О, заботы людей, о, сколько в делах их пустого!» (Луцилий, фр. 9). Сатирик смотрит на общественную жизнь извне, как досужий посторонний человек; по существу, таков же и Лукреций, предлагающий эпикурейцу смотреть на жизнь, как на бурное море с достигнутого берега (II, 1–14). Но для сатирика носитель худого – все же третье лицо, «он». В лирике, выделившейся из сатиры, положение сложнее. Здесь также сколько угодно инвектив против третьих лиц – сборник Катулла пестрит такими бранными стихотворениями. Но наряду с этим Катулл столь же готовно приписывает такие традиционные недостатки, как распущенность, легкомыслие, тщеславие и пр., самому себе, выставляет их напоказ, бравирует ими; для него носитель худого – не только «он», но и «я» (ср. державинское: «Таков, Фелица, я развратен! Но на меня весь свет похож…»). В какой мере это было подготовлено самоописаниями Луцилия, не совсем ясно; во всяком случае, непривычных читателей это вводило в большой соблазн, и отсюда являлась неприязнь к неотерикам со стороны такого судьи, как Цицерон. Этот антиобщественный пафос поэзии, выворачивающей наизнанку все традиционные римские ценности, противостоял общественному пафосу прозы Цицерона, Цезаря и Саллюстия: литература по формальному и по идейному признаку делилась пополам взаимодополняющим образом.
Михаил Леонович Гаспаров
Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей максимально полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. Гаспаров прежде всего знаменит своими античными штудиями, хотя сам он называл себя лишь «временно исполняющим обязанности филолога-классика в узком промежутке между теми, кто нас учил, и теми, кто пришел очень скоро после нас». Он также много занимался Средними веками и особенно много – переводил. Во втором томе собрания сочинений М. Л. Гаспарова представлены работы о литературе древнего Рима и о латинской литературе последующего периода, в основном средневековой. Они предназначались для изданий разного профиля и сами поэтому имеют разножанровый характер: панорамные картины больших историко-литературных периодов, тонкие портреты виднейших древнеримских поэтов, глубокие аналитические разборы отдельных произведений. Связывает обе части тома одна из главных для Гаспарова тем – история, содержание и судьба античной риторики, а также интерес к поэзии – от Катулла и Овидия к средневековым вагантам. В этом томе, как и в предыдущем, исследования М. Л. Гаспарова сопровождаются его художественными переводами, работа над которыми велась параллельно с научными изысканиями.
Михаил Леонович Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах Том II Рим После Рима
РИМ
О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ
ПОЭТ И ПОЭЗИЯ В РИМСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. М., 1997. С. 49–81. Впервые опубликовано в: Культура Древнего Рима: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1985. С. 300–335.
1
Поэзия в римской культуре прошла ускоренный путь развития. В IV веке до н. э. авторской поэзии в Риме еще не существовало, Рим жил устной, народной, безымянной словесностью; к I веку н. э. литературная авторская поэзия не только выделилась и оформилась, но и превратилась в такое замкнутое искусство для искусства, которое почти утратило практическую связь с другими формами общественной жизни. На такой переход потребовалось, стало быть, три столетия. В Греции подобный переход – от предгомеровской устной поэзии около IX века до н. э. до эллинистической книжной поэзии III века до н. э. – потребовал шести столетий, вдвое больше. Но главная разница в литературной эволюции Греции и Рима – не количественная. Главная разница в том, что римская поэзия с самых первых шагов оказывается под влиянием греческой поэзии, уже совершившей свой аналогичный круг развития, и черты, характерные для поздних этапов такого развития, появляются в римской поэзии уже на самых ранних ее этапах[1 - Различным аспектам такого своеобразия римской поэзии посвящена большая книга: Williams G. Tradition and originality in Roman poetry. Oxford, 1968 – интересное, хотя несколько хаотичное собрание интерпретаций стихотворений и отрывков римских поэтов I века до н. э.; к нашей теме ближе всего относится гл. 2 – The poet and the community. Ср. как бы дополнение к этой книге: Williams G. Change and Roman literature in the early Empire. Berkeley, 1978.].
Динамика литературы и искусства определяется в конечном счете тенденциями к интеграции и дифференциации общества, к его сплочению и его расслоению. В литературе и искусстве всегда сосуществуют формы, служащие тому и другому. Одни явления искусства приемлемы для всех (или хотя бы для многих) слоев общества и объединяют общество единством вкуса (которое иногда бывает не менее социально значимо, чем, например, единство веры). Другие явления в своем бытовании ограничены определенным общественным кругом, и они выделяют в обществе элитарную культуру и массовую культуру, а иногда и более сложные соотношения субкультур. Положение каждой формы в этой системе с течением времени меняется. Так, в греческой поэзии жанр эпиграммы, выработанный в элитарной элегической лирике VII–VI веков до н. э., в первые века нашей эры становится достоянием массовой поэзии полуграмотных эпитафий; и наоборот, жанр трагедии, оформившийся в VI–V веках из разнородных фольклорных элементов на почве массового культа аттического Диониса, через несколько веков становится книжной экзотикой, знакомой только образованному слою общества.
В греческой литературе доэллинистического периода поэзия, обслуживающая общество в целом, и поэзия, обслуживающая только верхний его слой, различались с полной ясностью. Поэзией, на которой сходилось единство вкуса целого общества, был, во-первых, гомеровский эпос (с IX–VIII веков), во-вторых, гимническая хоровая лирика (с VII века) и, в-третьих, только в Аттике, трагедия и комедия (с V века). Поэзией, которая выделяла из этого единства вкус социальной и культурной элиты, была лирика (элегия, ямб, монодическая мелика и такие жанры хоровой мелики, как энкомий и эпиникий). Конфликтов между этими системами вкуса, по-видимому, не возникало. Мы ничего не слышим, например, о том, чтобы в Афинах какой-то слой публики отвергал трагедию или комедию; и если Платон из своего утопического государства изгонял гомеровский эпос, то лишь во имя другой, столь же общеприемлемой литературной формы – гимнической лирики.
Только с наступлением эллинистической эпохи все меняется. Круг потребителей словесности из полисного становится общегреческим, формы передачи и потребления словесности из устных становятся книжными, все перечисленные литературные формы из достояния быта, обслуживающего настоящее, становятся достоянием школы, обслуживающей связь настоящего с прошлым. По одну сторону школы развивается поэзия нового быта, столь досадно малоизвестная нам, – новеллистические и анекдотические повествования, «эстрадная» лирика (гилародия, лисиодия и пр.), мимическая драма[2 - Ср.: Reich H. Der Mimus. Bd. I–II. Berlin, 1903 – сочинение фантастическое в подробностях, но до сих пор интересное в общих чертах: мощь того низового пласта словесности, к которому принадлежал мим, показана здесь хорошо.]. По другую сторону школы развивается элитарная поэзия каллимаховского типа, экспериментирующая с созданием искусственных новых литературных форм и оживлением малоупотребительных старых. Если до сих пор нарождение и изменение литературных жанров определялось в первую очередь внелитературными общественными потребностями (общегородских и кружковых сборищ, т. е. празднеств и пирушек), то теперь оно определяется иным: нуждами школы (которая тормозит тенденции к изменчивости и культивирует канон) и внутрилитературной игрой влияний, притяжений и отталкиваний (оторвавшейся от непосредственного контакта с потребителем). Такая картина остается характерной и для всей последующей истории поэзии в книжных культурах Европы.
Если сравнить с этой эволюцией социального бытования греческой поэзии эволюцию римской поэзии, то бросается в глаза резкое отличие. Постепенное накопление культурных ценностей, которое потом канонизируется школьной традицией как обязательное для всех, в Риме было нарушено ускорением темпа его культурной эволюции. Когда в III веке до н. э. Рим, не успев создать собственной школьной системы образования, перенял греческую, этим он как бы начал счет своей культурной истории с нуля. Между доблестной, но невежественной латинской древностью и просвещенной греческим светом, хотя и пошатнувшейся в нравах, современностью ощущается резкий разрыв, приходящийся на время I и II Пунических войн. Такое представление мы находим у Порция Лицина (конец II века до н. э.), а ко времени Горация оно уже непререкаемо (знаменитое «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила…» – «Послания», II, 1, 156). Школа греческого образца явилась не наследницей прошлого, а заемным средством для будущего[3 - О социальной роли античной школы см. классическую работу Marrou H. I. L’histoire de l’еducation dans l’antiquitе. Paris, 1948.]: она не осмысляла то, что и без того все знали, а насаждала то, чего еще никто не знал. Именно поэтому римская школа так легко принимала в программу произведения свежие, только что написанные: сперва «Летопись» Энния, потом «Энеиду» Вергилия. Такая школа не столько сплачивала общество, сколько размежевывала – противопоставляла массе, не прошедшей учения, элиту, прошедшую учение. (Такова, как известно, была роль греческой школы, выделявшей эллинизированную верхушку общества, и на эллинистическом Востоке.) Конечно, постепенно круг публики, прошедшей школу, все более и более расширялся, расплывался, и чем далее это шло, тем более школа приобретала свою естественную культурно-сплачивающую роль. Но это было долгим делом и завершилось разве что к концу I века н. э.
Опираясь на школу, римская поэзия распространяется в быт и низов, и верхов общества: эти два направления раздельны, как в эллинистической Греции. В римском быте издавна четко различались два сектора, две формы времяпрепровождения – «дело» и «досуг», negotium и otium: первый включал войну, земледелие и управление общиной, второй – все остальное[4 - Об этом основоположном для нашей темы понятии см.: Andrе J. L’otium dans la vie romaine. Paris, 1966; здесь прослеживается его история с древнейших времен до эпохи Августа.]. Почвой для поэзии стал именно «досуг». В Греции такой прочной связи поэзии с «досугом» мы не находим опять-таки до эпохи эллинизма: здесь слово ?????, «досуг» приобрело иное, дополнительное значение – «учение» (и перешло в латинский язык как ludus, «школа», буквально – «игра»). Удельный вес и формы проявления otium’a в римском быту менялись. Лишь постепенно, по мере повышения жизненного уровня в римском обществе для досуга освобождалось все больше места, причем, конечно, в первую очередь в высших, обеспеченных слоях общества. Соответственно с этим постепенно раскрывается римское общество и для поэзии. За долитературным периодом относительной однородности римской словесности следует сперва период формирования поэзии для масс, а потом – поэзии для образованной и обеспеченной верхушки общества: перед нами с самого начала – поэзия разобщенных культурных слоев, из которых каждый по-своему откликается на запросы римской действительности и опирается на материал, предоставляемый греческими предшественниками. Затем, в неповторимый, исторический момент перелома от Республики к Империи, запросы масс и запросы верхушки общества, обращенные к поэзии, совпадают: это – короткая полоса римской классики «золотого века», когда поэзия действительно объединяла, а не разъединяла общество. И наконец, после этого опять наступает разрыв, и поэзия досужего высшего общества продолжает существовать уже по инерции, как «поэзия для поэзии».
Таким образом, перед нами – знакомая периодизация истории римской литературы: эпоха устного творчества (примерно до 250 года до н. э.), «ранняя римская литература» (ок. 250 – ок. 150 гг. до н. э.), «литература эпохи гражданских войн» (ок. 150 – ок. 40 гг. до н. э.), «литература эпохи Августа» (ок. 40 года до н. э. – 15 год н. э.), «литература эпохи Империи» (примерно с 15 года н. э.). Нам предстоит лишь выделить для прослеживания наименее изученный аспект этой истории становления римской литературы.
2
В ранней римской словесности поэзия бытовала только устная и безымянная. Письменность фиксировала лишь деловую прозу: законы и жреческие летописи. Лирическая поэзия была целиком обрядовая (гимны богам, плачи по умершим) и как таковая казалась тоже не художественной, а деловой словесностью. Драматическая поэзия играла лишь подсобную роль при игровых представлениях: одни из этих представлений считались этрусского происхождения («фесценнины», от сельских обрядовых хоровых перебранок), другие – оскского («ателланы», от городских комических бытовых сценок), но история их затемнена домыслами позднейших грамматиков, реконструировавших ее по аналогии с историей греческой комедии. Эпическая поэзия была представлена загадочными застольными песнями «во славу предков», исполнявшимися то ли «скромными отроками» (Варрон у Нония, s. v. assa voce), то ли самими пирующими поочередно, т. е. уже по греческому обычаю (Катон у Цицерона, «Брут», 75); так как уже Катон не застал живой памяти о них, то можно считать, что за сто лет до его рождения, около 350 года, их уже не было в быту. Видно, что перед нами более архаический тип бытования песен, чем в гомеровской Греции: певец еще не специализировался, не отделился от слушателей, перед нами скорее Ахилл, который сам себе поет и играет на кифаре («Илиада», IX), чем Демодок, который поет и играет для слушателей, собравшихся на пиру («Одиссея», VII). Образ поэта в римской культуре еще не существует. Первым «писателем с именем» по традиции учебников считается Аппий Клавдий Слепой, которому приписывались «сентенции», «стихи» и даже «пифагорейское стихотворение», которое будто бы хвалил Панетий (Цицерон, «Тускуланские беседы», IV, 4; несомненно, это позднейшая тенденциозная атрибуция). Видимо, это только значит, что он первый стал собирать и редактировать народные дидактические пословицы в стихах.
Перед римской поэзией такого рода было несколько путей развития. Или здесь, как на древнем Востоке, вообще могло не произойти становления авторской поэзии, и словесность осталась бы безымянна и традиционна; или, как в Греции, соперничество аристократических группировок могло послужить толчком к развитию индивидуальной лирики, а потребности всенародных обрядов – к развитию хоровой лирики или драмы (ludi scaenici вошли в программу Римских игр еще в середине IV века). Не случилось ни того, ни другого. Римская культура в III веке до н. э. соприкоснулась с греческой культурой ближе, чем прежде, а в греческой культуре этого времени словесность уже расслоилась на элитарную, школьную и низовую. В таком виде она и оказывала решающее влияние на формирование общественного статуса поэзии в Риме. При этом в первую пору самым влиятельным оказался школьный пласт греческой культуры: здесь новые культурные ценности представали в наиболее устоявшемся, компактном виде, удобном для духовного импорта.
Греко-римские контакты были устойчивы и плодотворны задолго до III века. Посредниками были этруски, владевшие Римом в VI веке, и Кампания, ставшая римским владением в IV веке. В Риме писали письмом, развившимся из греческого, и молились богам, отождествленным с греческими, при Форуме находилось греческое подворье – Грекостасис. Но до поры до времени это были соседские контакты, не выходившие за пределы Италии: греческий мир как целое для Рима не существовал, о поездках и посольствах римлян даже в недалекую материковую Грецию мы почти ничего не слышим. Перемена наступила тогда, когда с Пирровой войной, завоеванием Южной Италии и первым подступом к греческим и карфагенским владениям в Сицилии Римское государство вышло на международную средиземноморскую арену. Здесь греческий язык был интернациональным – а вместе с ним и стоящая за ним греческая культура. Овладение ими стало делом международного римского престижа[5 - «Римские вожди приобретали превосходство уже тем, что они умели говорить по-гречески и думать по-гречески, тогда как греческим вождям нужны были переводчики, чтобы понимать по-латыни… Овладение иностранным языком означало победу римской власти. Даже Полибий и Посидоний не понимали этого и искали объяснения римских успехов в древних римских доблестях» (Momigliano A. Alien wisdom: the limits of hellenization. Cambridge, 1975. P. 38–39; здесь же большая библиография прежней литературы о греческом влиянии в Риме).]. Это значило, что такое овладение должно было быть, во-первых, основательным, во-вторых, системным, а в-третьих, так сказать, победительским – не с подобострастием ученика, а с высокомерием хозяина положения. Действительно, в развитии римской культуры III–II веков мы наблюдаем все эти черты, и некоторые из них очень существенны для положения римской поэзии.
Основательность овладения греческим языком и культурой видна из того, что в Риме появляются произведения, писанные римскими авторами на греческом языке, – труды Фабия Пиктора и других старших анналистов. Несомненно, к ним сильно прикладывали руку безымянные греческие секретари, однако в том, что эти книги не были переводами с латинской диктовки, а с самого начала писались на греческом языке, по-видимому, ни у кого не возникало сомнений. Это означало, что первые очерки римской истории писались не для римских читателей, а для греческих, точнее – для грекоязычных (как на Востоке книги Манефона и Бероса). Это была пропаганда международного масштаба, имевшая целью убедить политический мир Средиземноморья, что Рим с Энеевых времен принадлежит к его культурной общности. Так освоение греческой культуры с первых же шагов оказывалось освоением напоказ – не из внутренних потребностей римского правящего сословия, а для внешней демонстрации перед соседями.
Системность овладения греческим языком и культурой видна из того, что главным путем к ним стала школа. «Первый римский поэт», по устойчивому представлению античных и позднейших филологов, – это Ливий Андроник, грек из Тарента, раб, а потом вольноотпущенник в доме сенатора Ливия Салинатора (консула 219 года?), учитель его детей, переводчик «Одиссеи» сатурнийским стихом. Мы видим: сенаторские дети смолоду обучаются греческому языку, это порождает спрос на греков-учителей, по совместительству те берут на себя обучение и латинскому языку, переносят на него опыт преподавания греческого языка – чтение и толкование поэтических текстов, а для этого вынуждены сами готовить латинские поэтические тексты. Выбор текстов диктуется греческой школьной программой: Гомер давно перестал быть образцом для творческого подражания греческих поэтов III века, но в школьном преподавании он оставался альфой и омегой. «Одиссея» была предпочтена «Илиаде», несомненно, потому, что предмет ее должен был казаться ближе римскому читателю: странствия Одиссея, по мнению комментаторов, происходили в том самом Западном Средиземноморье, где теперь возвысился Рим.
Далее напрашивалась мысль по аналогии с греческим героическим эпосом создать римский героический эпос. Сходного фонда мифов о богах и героях у римлян не было, но им это представлялось меньшим препятствием, чем нам: миф переходил в историю незаметно, и предания об Энее, Ромуле и Муции Сцеволе, продолжая друг друга, казались таким же достойным эпическим материалом, как предания об Ахилле и Агамемноне. Так появляются первые оригинальные римские эпопеи: «Пуническая война» Невия (ок. 210 года до н. э.) и «Летопись» Энния (180–170?е годы), начинающие повествование с Энея и кончающие событиями своего времени. Ориентировка на Гомера вполне демонстративна и у Невия, и у Энния (с его нововведенным гексаметром и переводными гомеризмами в стиле). Оба поэта начинают воззваниями к Каменам-Музам, а Энний описывает затем вещий сон о том, как в него переселилась душа Гомера. (Идея такого пролога подсказана прологом Каллимаха к «Причинам»: Энний утверждает классическую поэтику эллинистическими средствами[6 - Эллинистическая выучка Энния – тема, все больше раскрываемая филологией XX века. Ср., например, главу «Энниевская традиция» в кн.: Newman J. К. Augustus and the new poetry. Bruxelles, 1967.].) Перед нами несомненная попытка искусственного создания «школьной классики»[7 - Так потом в эпоху романтизма иногда искусственно создавалась даже «народная классика», например в «Краледворской рукописи» или в «Калевипоэге» Крейцвальда.]. Действительно, «Одиссея» Ливия оставалась школьным чтением еще во времена молодости Горация («Послания», II, 1, 69), а Энний сам преподавал по своей «Летописи» (Светоний, «О грамматиках», 1), и еще о времени Августа Марциал пишет: «Энния, Рим, ты любил читать при жизни Марона…» (V, 10, 7).
Однако этим не исчерпываются общественные функции первых римских эпопей. Они не только сплачивали общество, но и размежевывали, выделяя воспеваемую социальную верхушку. Начинаясь с мифологических времен, эти поэмы ориентировались на школьный эпос, но, заканчиваясь событиями ближайшей современности, они ориентировались на панегирик. Панегирический жанр был знаком Риму и по речам над покойниками, и по защитительным апологиям в судах (реже в народных собраниях); теперь он облекался в стихи, рассчитанные уже не на время, а на вечность. Об Эннии мы знаем (Авл Геллий, XVII, 21), что он довел свою «Летопись» в 12 книгах до 196 года, а потом постепенно добавил к ней еще 6 книг – в частности, о победе своего покровителя М. Фульвия Нобилиора над этолийцами при Амбракии в 189 году, где он сам присутствовал в его свите; и знаем, что одно из его малых сочинений называлось «Сципион», а другое «Амбракия». Предполагается, что эта «Амбракия» была претекстой, трагедией на римскую тему; в этом малопопулярном жанре еще виднее раздвоение тематики между героико-мифологической и панегирической установкой – сохранившиеся заглавия относятся или к заведомо полусказочной древности («Ромул» Невия, «Сабинянки» Энния), или к только что одержанным победам (кроме «Амбракии» – «Кластидий» Невия). Легко представить, что в соперничестве этих двух установок все выгоды чем дальше, тем больше оказывались на стороне последней. О поэмах, посвященных римской древности, мы больше ничего не слышим вплоть до «Энеиды» («Летопись» написал трагик Акций, но содержание ее загадочно). Поэмы же, воспевающие очередные современные победы, продолжали усердно писаться: известно об «Истрийской войне» (129 год до н. э.) Гостия, о «Галльской войне» Фурия (то ли Фурия Анциата, конец II века до н. э., то ли Фурия Бибакула, середина I века до н. э.), о «Секванской войне» Варрона Атацинского (ок. 55 года до н. э.)[8 - Подавляющая часть римской поэзии, особенно ранней, до нас дошла лишь в упоминаниях и фрагментах (впервые научно изданных Э. Беренсом: Fragmenta poetarum Romanorum. Lipsiae, 1886); без них нельзя представить подлинной картины римской литературы. Ср.: Bardon H. La littеrature latine inconnue. Paris, 1952–1956. T. I–II.]. Так постепенно намечалась самая простая и грубая форма использования поэзии в римской общественной жизни: славословие событиям и лицам текущей политической истории, нечто вроде обязательных од, которыми откликалась на современность европейская (и русская) поэзия XVII–XVIII веков. Мы увидим, что к I веку до н. э. такая функция оказывается уже четко осознанной.
Круг публики, на которую рассчитывала такая панегирическая словесность, был, по-видимому, неширок. В школах продолжали держаться Ливия да Энния, вне школ спроса на поэтические книги, как кажется, еще вовсе не существовало: поэты писали, очевидно, лишь в угоду прославляемому покровителю (или прямо по его заказу). У панегирических стихов был, разумеется, и спутник – панегирик наизнанку, инвективные стихи; но в условиях римского общественного быта III–II веков до н. э. им труднее было существовать. История о том, как Невий пустил (в комедии?) знаменитый двусмысленный сценарий «(Злой) Рок дает Метеллов Риму в консулы», а Метеллы ответили не менее знаменитым недвусмысленным сатурнием «Будет взбучка поэту Невию от Метеллов», надолго запомнилась потомству. Время бурного расцвета политического срамословия в эпиграммах наступит лишь в пору гражданских войн, при Катулле и Кальве.
Третья особенность – то, что мы позволили себе назвать римским высокомерием в освоении греческой словесности, – больше всего выступает в отношении общественных верхов не к школе, а к сцене. Та же забота о международном престиже Рима, о которой говорилось выше, побуждала город и внешне приобрести облик, достойный мировой столицы. Рим обстраивается греческими храмами, учреждает новые празднества по греческому образцу, и в программе этих празднеств театральные представления занимают все больше места. Цель этого праздничного блеска двоякая: во-первых, поддержать славу новой столицы перед греческим миром и, во-вторых, ублажить широкие массы населения, утомленного тяжелыми войнами. Это был тот самый праздничный, публичный «досуг», о котором говорилось выше.
Ни о какой духовной эллинизации римской правящей знати еще нет и речи: греческий театр для нее не часть внутреннего мира, а лишь предмет роскоши, рассчитанный на иностранцев и чернь. Для себя аристократия сохраняет строгий древнеримский человеческий идеал, mos maiorum, в котором нет места греческим забавам. Вплоть до поколения Теренция и Сципиона Эмилиана мы не встречаем упоминаний о сенаторах не только как о сочинителях, но даже как о зрителях театральных представлений. Когда Риму понадобилось первое историческое сочинение, этим занялся сенатор Фабий Пиктор, но когда понадобилось первое сценическое представление не старинного этрусского, а новомодного греческого образца, оно было поручено вольноотпущеннику Ливию Андронику, и когда для умилостивительного моления Юноне Авентинской потребовалось сочинить новый гимн по образцу греческого парфения – дело гораздо более идеологически ответственное, но тоже зрелищного характера, – то и это сделал вольноотпущенник Ливий Андроник. Поэт выступает наемным исполнителем поручений эдила, устраивающего зрелище, не более того: актеры берут на себя игровую часть, поэт словесную, причем публика еще плохо понимает, что в словесной части можно и чего нельзя делать, и старший актер от своего лица объясняет ей в прологе что к чему (Амбивий Турпион в «Самоистязателе» Теренция). Первые слухи о том, что сенаторы снисходят до внимания к драматургии, стали распространяться лишь при Теренции и сразу выросли в скандальные преувеличения, дошедшие и до доверчивых грамматиков-биографов (знатные друзья помогают-де Теренцию сочинять комедии – «Самоистязатель», 25; «Братья», 15), а Теренций отвечал на них с очень кокетливой уклончивостью, понимая, как это должно усилить внимание публики к его произведениям.
Парадоксальным образом такое высокомерное отношение сенаторских верхов к новым формам поэзии оказалось решающе важным для всего последующего расцвета римской литературы: благодаря ему она развилась как литература на латинском языке[9 - Ср.: Аверинцев С. С. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.]. В самом деле, если бы греческое влияние в Риме утвердилось сразу как аристократическая мода, то римские писатели, скорее всего, с самого начала стали бы писать на готовом греческом литературном языке – как 400 лет спустя писали по-гречески и сириец Лукиан, и римлянин Элиан. Но сценические жанры, обращенные к широкой публике, не знающей греческого языка, поневоле должны были пользоваться латинским языком, доводя его до литературности, и когда на следующем этапе литературной истории римские сенаторы сами снизошли до поэтических занятий, они уже располагали для этого достаточно разработанным латинским литературным языком.
Другой парадокс заключался в том, что массовыми жанрами ранней римской сцены оказались те, которые в самой Греции уже перестали быть массовыми и сценическими, а остались лишь школьными и книжными – трагедия и комедия. В самом деле, греческая Новая комедия заканчивает свой цикл развития примерно к 250 году до н. э. (как раз к тому времени, когда первые драмы появляются в Риме), а греческая трагедия перестает развиваться еще раньше, оставаясь лишь экспериментальной забавой «плеяды» александрийских книжников (Ликофрон, Александр Этолийский и др.) и им подобных. Разумеется, и трагедии, и комедии классиков продолжают время от времени ставиться на сцене, однако основу репертуара составляют уже не они, а различные формы мима. Рим переходит к такому репертуару лишь через полтора столетия. Отчасти это – естественное отставание молодой культуры, поспевающей за своим меняющимся образцом, отчасти же – просто недостаток культурных сил в раннем Риме. Ливию Андронику приходилось одновременно быть и учителем сенаторских детей, и стихотворцем, и актером в собственных пьесах (Ливий, VII, 2); Эннию – и учителем, и стихотворцем; Плавту – и стихотворцем, и актером[10 - Было бы любопытно узнать, не намечалось ли здесь расхождение между «литераторской драматургией» и «актерской драматургией», не раз возникавшее в других театральных культурах, например в английской елизаветинской драме; общее впечатление говорит за это, но, конечно, достаточными сведениями мы не располагаем.]. Таким образом, школьное и сценическое освоение греческой поэзии скрещивались: из драматических жанров на сцену попадали прежде всего те, которые были апробированы школой, – происходила, так сказать, сценическая реанимация литературной драмы.
Это давалось не без труда: греческая драма, попадая на римскую сцену, должна была перестраиваться для удобства восприятия неподготовленной римской публики. Сюжеты греческой трагедии и комедии были для римской театральной толпы материалом незнакомым и необычным: мир греческих драм воспринимался римлянином как далекая экзотика. Фон трагических мифов, где для грека каждое имя и название было окружено ореолом ассоциаций, был для римского зрителя неопределенным «тридесятым царством»: римляне смотрели на трагедии о Персее и Агамемноне, как смотрели бы греки на представления об ассирийских царях. Фон комедийных ситуаций с их традиционными фигурами хитрых рабов, изящных гетер, ученых поваров и льстивых параситов казался жителю полукрестьянского Рима таким же экзотичным, а комедиографы еще более подчеркивают условность этого мира («здесь, в Греции, так водится…»), оттеняя ее мелкими римскими реалиями – упоминаниями о римских обычаях, римских чиновниках и пр. Привычку к новым жанрам приходилось поддерживать сравнительно однородным материалом, поэтому тематика римских трагедий значительно однообразнее, чем греческих: почти половина известных сюжетов принадлежит к циклу мифов о Троянской войне и о судьбе Атридов (несомненно, в память о троянском происхождении римского народа). Можно думать, что здесь, в трагедиях, пошла в ход практика контаминации: имея перед собой несколько греческих пьес на один и тот же сюжет, римский драматург легко мог соблазниться перенести эффектную сцену из «Электры» Софокла в «Электру» Еврипида и пр.; а потом уже эта практика могла перейти в менее податливые комедийные сюжеты. Цель, по-видимому, всегда была одна: усилить, утрировать трагизм и комизм греческих образцов, чтобы они вызывали у публики не недоумение, а должную скорбь или смех.
В целом вкус римской театральной публики[11 - О римской публике трех эпох (Республика, время Августа, Ранняя Империя), театральной и литературной, см.: Guillemin А. М. Le public et la vie littеraire a` Rome. Paris, 1937.] не пользовался хорошей славой: твердо считалось, что трагедии он предпочитает комедию (это обыгрывается Плавтом в прологе к «Амфитриону», которого он называет «трагикомедией»), а комедии – гладиаторский бой или упражнения канатоходцев (об этом свидетельствует Теренций в прологе к «Свекрови», которая дважды проваливалась, не выдержав такого соперничества). Конечно, в этом образе есть преувеличение: в тех же прологах Теренция на суд публики выносятся весьма тонкие литературные споры, сюжет строится гораздо сложнее и богаче неожиданностями, чем у Плавта, – видимо, театральный опыт, накопившийся за поколение между Плавтом и Теренцием, много дал не только авторам, но и зрителям. Однако еще при Августе Гораций, объясняя бесперспективность драматических жанров («Послания», II, 1), ссылается на то, что народ требует от них только зрелищного эффекта: от комедий – драк (ср. рассказ Полибия, XXX, 14, о преторе Аниции, современнике Теренция), а от трагедий – пышных триумфальных шествий. Другой крайностью народного вкуса был, по-видимому, растущий спрос на дидактическую сентенциозную мудрость[12 - См.: Kroll W. Studien zum Verst?ndnis der r?mischen Literatur. Stuttgart, 1924. Kap. 4; Williams G. Tradition and originality… Ch. 9. Moralizing and poetry.]: можно думать, что этим объяснялась (несомненная все же) популярность Теренция и что именно это породило на следующем этапе такое странное явление, как мимы Публилия Сира, по сюжетам, по-видимому, не отличавшиеся от массовой продукции этого жанра, но насыщенные таким множеством нравственных сентенций (одностишиями, в подражание Менандру), что из них составлялись целые сборники, в искаженном виде дошедшие и до нас.
Общей чертой всех этих подходов к литературе в III–II веках до н. э. было то, что общественное положение поэта оказывалось приниженным. В греческой полисной культуре поэт-сочинитель (в отличие от аэда и рапсода) не был профессионалом, песни в застольях и афинские драматические представления были, в терминологии нашего времени, «самодеятельностью»[13 - Как известно, этот аспект усиленно подчеркивался советскими теоретиками в пору опытов театрального обновления 1920?х годов. См.: Гвоздев А. А., Пиотровский А. И. История европейского театра: Античный театр, театр эпохи феодализма. М.; Л., 1931.]: известная автоэпитафия Эсхила (AP, App, II, 17, Куньи) упоминает его доблесть при Марафоне, но не упоминает его поэтических заслуг. Наемнический профессионализм поэта намечается в истории греческой культуры лишь дважды: при дворах тираннов V–IV веков (вспомним пародический образ поэта-попрошайки в «Птицах» Аристофана, 904–952) и при дворах эллинистических царей с III века; но и то, к нашему удивлению, в эллинистических эпиграммах доримского времени мы не находим насмешек над двойственностью положения поэта, друга богов и раба своих покровителей.
В Риме же поэт появляется сразу профессионалом, сразу пришельцем и, соответственно, лицом низкого социального статуса. Вольноотпущенниками были Ливий Андроник, Цецилий Стаций, Теренций Афр, потом Публилий Сир; сыном вольноотпущенника был трагик Акций; из нелатинских окраин происходили Невий (с его «кампанской гордыней»), Плавт (из апеннинской Умбрии), Энний (из Калабрии, говоривший, что у него «три души» – греческий язык, оскский и латинский) с его племянником Пакувием. Им, выходцам из смешанного населения, легче было стать посредниками между римской и греческой культурой. Поэты и актеры считались ремесленниками, обслуживающими сценические представления, и были организованы в «коллегию писцов и лицедеев» (Фест, 333) при авентинском храме Минервы – «в память Ливия (Андроника), который и сочинял пьесы, и играл», поясняет Фест. Об этой коллегии упоминается и позднее, в эпоху трагика Акция (Валерий Максим, III, 7, 11) и, по-видимому, в эпоху Горация («Сатиры», 1, 10, 36); судя по этим упоминаниям, она по-прежнему объединяла преимущественно драматургов и к создателям «большой литературы» отношения не имела.
Интонации обращений поэтов к публике соответствуют такому их общественному положению: они заискивают и смотрят снизу вверх. Плавт старается ввернуть в свои прологи комплимент победоносному римскому народу («Касина», «Канат», «Амфитрион»); Теренций, сводя литературные счеты, приглашает зрителей быть верховными судьями; Энний в «Сципионе» обращается к адресату «О непобедимый Сципион!» и «Какую статую, какую колонну воздвигнет римский народ, чтобы возвестить о твоих подвигах, Публий?» (фр. 475–476, Беренс). На фоне такого реального положения поэтов в обществе парадоксально звучит традиционный величаво-жреческий тон их эпических зачинов (почти как у пародийного аристофановского поэта), когда и Невий, и Энний начинают свои поэмы по гомеровскому образцу обращением к Каменам-Музам[14 - История самоощущения римских поэтов и отношения поэта к обществу – главный предмет классической статьи: Klingner F. Dichter und Dichtkunst im alten Rom // Klingner F. R?mische Geisteswelt. 3. Aufl. Munchen, 1956. S. 142–172. Вторая сторона темы, отношение общества к поэту, прослеживается Клингнером более бегло.]. (Это любопытное наслоение противоречивых традиций: когда Энний рассказывает, что в него переселилась Гомерова душа, то он подражает прологу Каллимаха к его «Причинам», как Каллимах, в свою очередь, прологу Гесиода к «Феогонии»; но Энний это делает во славу Гомера, Гесиоду и Каллимаху враждебного, и подкрепляет авторитетом Пифагора, Каллимаху, по-видимому, безразличного.) Такое самовеличание поэта-клиента выглядит театральной ролью, разыгрываемой в угоду покровителю и заказчику: разница между комедией для массового зрителя, панегириком для знатного покровителя и эпосом для школьной пропаганды оказывается не столь уже велика.
3
Новый период развития римской поэзии начинается приблизительно с поколения Сципиона Эмилиана и Лелия, около 150 года, и продолжается до времени Юлия Цезаря. Это время, когда общественные верхи перестают быть высокомерными распорядителями чуждой им поэтической культуры и становятся усердными ее потребителями и осторожными подражателями. Римская сенатская аристократия впервые видит в греческой культуре ценность для себя, а не для других, средство внутреннего совершенствования, а не внешнего блеска. Конфликт начала II века между Катоном, по-прежнему считавшим, что у греков нужно учиться практическому опыту, но без идейных компромиссов («прочитывать, но не зазубривать» их сочинения. – Плиний Старший, XXIX, 14), и Сципионом Старшим, который своим поведением, аффектировавшим героическое благородство и подражавшим Александру Македонскому, утверждал новый для Рима гуманизированный человеческий идеал, – этот конфликт был решен следующими поколениями в пользу Сципиона.
Греческий язык и знакомство с образцами греческой словесности стали почти обязательны для римского сенатора: Гай Марий, не знавший по-гречески, был в своем поколении уже не правилом, а (отчасти демонстративным) исключением. Грамматические школы с обучением греческому языку, по-видимому, перестают быть редкостью, и грамматики ведут занятия не на дому у своих сенаторов-покровителей, а в собственных училищах: не учителя идут к ученикам, а ученики стекаются к учителям. Вслед за школами с обучением греческому языку появляются школы с обучением латинскому языку (Л. Плотий Галл, конец II века) и уже в следующем поколении укрепляются настолько, что Элий Стилон, начинатель латинской филологии, ведет в своей школе не только учебную, но и научную работу. Продолжением грамматических школ становятся риторические, обучающие не пассивному, а активному владению греческим выразительным словом; вслед за греческими риторическими школами опять-таки появляются латинские и уже к 92 году укрепляются так, что цензоры Л. Красс и Гн. Агенобарб запрещают их безрезультатным эдиктом (Светоний, «О грамматиках», 25). (Это был эпизод общественной борьбы: в сенаторском сословии владение приемами красноречия было наследственным опытом, поднимавшиеся в гражданских войнах новые общественные слои овладевали ими в школах, этого и пытались их лишить.)
В целом можно считать, что сенаторское сословие и верхний слой всаднического уже представляют собой читающую публику, готовую для восприятия греческой книжной словесности и латинской, складывающейся по греческому образцу. Латинская проза – красноречие, историография, популярно-научная и популярно-философская литература – переживает при Цицероне общеизвестный расцвет, почвой для которого явилась именно эта публика, уже не только слушающая, но и читающая. До Цицерона книжное дело в Риме обслуживало только школу – при Цицероне появляется Аттик, в книжной мастерской которого (Непот, «Аттик», 13) переписываются на продажу сочинения Цицерона и других злободневных прозаиков; а за Аттиком следуют и другие[15 - Основополагающими трудами о книге в античной жизни остаются: Birt Th. Das antike Buchwesen in seinem Verh?ltnis zur Literatur. Berlin, 1882; Idem. Das Buchrolle in der Kunst. Leipzig, 1907; ср.: Борухович В. Г. В мире античных свитков. Саратов, 1976. Гл. 10.]. Это значит, что «естественная» в эпоху рукописных книг форма распространения текстов, когда каждый переписывал заинтересовавшую его книгу сам для себя, частично уступает место более рискованной, рассчитанной на достаточно обеспеченный общественный спрос. В следующем поколении Гораций будет говорить о литературной роли книжных лавок как о вещи общеизвестной («Послания», I, 20, 2; «Поэтика», 373). Но покамест речь шла о жанрах, как бы дозволенных для образованного сенатора и прежде. Место поэзии в этом литературном оживлении было несколько иным.
Основным культурным событием новой эпохи было освоение досуга (otium) в частном быту. С повышением жизненного уровня в римском обществе «досуга» у человека становилось все больше. Традиционным заполнением этого вакуума было расслабление в застольных и иных забавах. Новым способом заполнения досуга стало чтение, размышление и беседы на нравственные темы: уже Сципион Старший будто бы говорил, что он «на досуге меньше всего бывает досужим» (nunquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus. – Цицерон, «Об обязанностях», III, 1). В этом досуге вырабатывались две новые категории, дополнявшие традиционную систему ценностей римской идеологии (pietas, fides, gravitas, constantia…), – humanitas и urbanitas. «Человечность», humanitas, была свойством внутренним, воспитывалась раздумьями и попытками познать себя и ближнего; «столичность», urbanitas, была свойством внешним – обходительностью, изяществом, остроумием, она воспитывалась чутьем и опытом, и одним из пособий в этом самовоспитании была поэзия. Красноречие и историография как литературная форма аристократического negotium’a допустили рядом с собою поэзию как литературную форму аристократического otium’a.
Важно и то, что после покорения Македонии, Греции и установления римского контроля над эллинистическими государствами контакт римлян с греческой словесностью стал более непосредственным. Теперь это были не только уроки школы с ее отстоем культуры прошлого, но и прямые впечатления от культуры настоящего – от александрийской ученой и светской поэзии для образованных верхов, от эстрадных мимодий и мимологий для необразованной массы. И то и другое воспринимались особенно живо, потому что и на римской культурной почве разрыв между более досужими общественными верхами и по-прежнему недосужей полуобразованной массой стал сильнее. Это было одним из проявлений морально-политического кризиса: разрушалось то ощущение единства свободного гражданства, которым держался Рим в раннереспубликанскую эпоху и отчасти еще в эпоху больших завоеваний. Трагедии Энния и комедии Плавта еще могли иметь успех у всех слоев зрителей, но уже комедии Теренция встречали живую поддержку в кружке Сципионов и холодный прием у театральной толпы. В предыдущем периоде перед нами был народ, свысока питаемый импортной драмой по греческому образцу, и сенатское сословие, с виду блюдущее староримскую чистоту вкуса; теперь перед нами народ живет все той же словесностью, но сенатское сословие начинает вырабатывать себе свою собственную, и это разделяет их как никогда прежде.
Поэзией для массы остается поэзия сценическая: трагедия и комедия. Трагедия, менее популярная в массах с самого начала, к концу нашего периода вовсе сходит на нет, а перед этим долгое время держится только талантом последнего римского трагедиографа Луция Акция. В области же комедии перед нами проходит быстрая смена господствующих жанров: комедию-паллиату, переводную с греческого (ок. 235 – ок. 160) оттесняет комедия-тогата на специфически римском материале (ок. 160 – ок. 75), с тогатой соперничает литературная ателлана (ок. 100 – ок. 75), а их обеих вытесняет мим (к 50?м годам до н. э. – почти безраздельно). Памятники этих жанров сохранились лишь в мелких отрывках, сюжеты во всех разрабатывались, как кажется, очень похожие, поэтому представить себе смысл такой эволюции трудно. Видна лишь основная тенденция: комедия освобождается от литературных форм, навязанных школой, и возвращается к более простым и народным. Условно-греческий материал и заемно-греческая форма паллиаты уступают место латинскому материалу тогаты и италийской форме ателланы с ее четырьмя стандартными масками; а затем и то, и другое растворяется в миме, поэтика которого вовсе интернациональна и полуфольклорна. Тот же путь и в той же обстановке социально-культурной поляризации был проделан прежде, в эпоху эллинизма, и греческой комедией, от аттической «новой» вернувшейся к миму доаттического образца. Влияние этого греческого мима на латинский (не через книги, а через непосредственные зрительские впечатления римлян и через опыт сценических дел мастеров, вывозимых из греческих стран в Рим) не подлежит сомнению. Судя по скудным отрывкам эллинистических мимов, форма их сценариев воспринималась как нелитературная, как сырой материал для сценической игры; видимо, таков был и римский мим, несколько веков существования которого оставили нам ничтожно мало отрывков. То, что сохранилось (не считая сентенций Публилия Сира), – это почти исключительно тексты Децима Лаберия (время Цезаря) – видимо, этот автор пытался вновь возвысить мим до литературной поэзии, но остался одинок, и Гораций («Сатиры», I, 10, 6) отказывается считать его мимы за поэзию.
Поэзией не для массы и не для образованных сословий оказывается поэзия эпическая. Школа в ней больше не нуждается: она имеет своих Ливия и Энния, и чем они становятся старше, тем дороже. Сенаторы же, к которым эпос обращается своей панегирической стороной, хотя и принимали благосклонно поэмы вроде «Истрийской войны» и «Галльской войны», хотя и побуждали греческих клиентов сочинять такие поэмы даже для внеримских читателей (как Цицерон – Архия), хотя и сами сочиняли поэмы себе в честь (как тот же Цицерон – «О своем консульстве»), однако все это не обеспечивало жанр читателями. Видимо, дальше прославляемого дома эти поэмы не шли и рассматривались свысока (как подносная «шинельная поэзия» в России XIX века). Монументальный эпос на некоторое время перестает быть жизненной формой римской поэзии и продолжает существовать только по традиции.
Поэзией для образованных сословий становится новый в Риме жанр – сатура (сатира). Первые образцы его предложил все тот же неутомимый новатор Энний: создавая монументальную «Летопись» как памятник римского negotium’a, он одновременно сочинял и сатуры как пособие для римского otium’a. Переломом, однако, стало в следующем поколении творчество Луцилия: он первым сосредоточился исключительно на жанре сатур, превратив этот otium в свой negotium. Примечательно, что первым же вопросом, вставшим при появлении нового жанра, стала проблема читателя: для кого сочиняет Луцилий, если не для школы и не для сцены? Луцилий отвечает: для читателей книг, но не для самых ученых и деловитых, а для средних, общеобразованных (фр. 588–596 из ранней XXVI книги: «Не хочу, чтобы читал меня Персий, – пусть читает Децим Лелий» или, в другом варианте, «Юлий Конг»; имена эти, к сожалению, говорят нам меньше, чем говорили первым читателям).
Главная новизна сатуры состояла в том, что negotium был делом общим и строил литературные произведения вокруг общепринятых тем и идей, a otium был делом личным и строил произведения вокруг индивидуальных ассоциаций. Поэт представал не как временное воплощение вечного жанра (так Гомер и его перевоплощение – Энний были лишь олицетворением эпоса), а как творец, на глазах у читателей создающий из текучей неопределенности неканонизованного материала произведение нового жанра. Такой образ поэта включал не только «божественный дух и уста, вещающие великое» (Гораций, «Сатиры», I, 4, 44), но и все подробности его характера, облика и жизни: именно этим запомнился Луцилий своим читателям («он поверял свои тайны книгам, как верным друзьям… поэтому жизнь старика представала в них воочию, словно на картине, посвящаемой богам». – Там же, II, 1, 30–34). Образцом для Энния и Луцилия при создании римской сатиры был эллинистический жанр «смеси» (????????, ??????, ?????), развившийся в результате перенесения в поэзию опыта прозаических диалогов и диатриб с их нарочитой прихотливостью диалектического движения мысли[16 - Эллинистическое происхождение римской сатиры (вопреки знаменитым квинтилиановским словам satura tota nostra est) общепризнано после работы: Puelma Piwonka М. Lucilius und Kallimachos. Frankfurt am Main, 1949.]; в «высокой» эллинистической литературе этот жанр был представлен «Ямбами» Каллимаха, в низовой – диатрибами Мениппа Гадарского (в следующем после Луцилия поколении ученый Варрон в педантическом эксперименте попытался воспроизвести даже форму этих «Менипповых сатир» – смесь прозы и стихов); но, как кажется, такой яркой демонстративности организующего образа автора в этих греческих образцах не было. Она появляется лишь в римской сатире, и появляется потому, что здесь ее опорой служит утверждение в поэзии голоса индивидуального «досуга» рядом (и в противовес) с голосом общественного «дела».
Греческая поэтическая диатриба с ее текучей аморфностью не была канонизованным жанром словесности – наоборот, она своим существованием как бы оттеняла твердость и устойчивость канонизованных жанров. Римляне с нею познакомились, конечно, не через школу, а через непосредственный контакт с современным греческим литературным бытом. При этом историческое место диатрибы в развитии греческой словесности и сатуры в развитии римской оказалось совсем различным. Эллинистическая диатриба была в основе своей пародична: это была смесь элементов, заимствованных из жанров, уже прошедших большой путь развития и начинающих окостеневать или разлагаться. Римская же сатура была смесью элементов таких жанров, которые еще были неизвестны в Риме и развитие которых на римской почве было еще в будущем. Поэтому эллинистическая диатриба не имела, по существу, дальнейшего развития: в стихотворной форме она скоро отмерла, а в прозе она сохраняла свою жанровую аморфность почти неизменной вплоть до конца античности.
Римская же сатура стала истоком сразу нескольких новых в Риме поэтических жанров: дидактические и литературно-полемические мотивы выделились в жанр дидактической поэмы (начиная с «Гедифагетики» Энния, затем переходя к все более серьезному материалу в историко-литературных поэмах Порция Лицина и Акция, и наконец, скрестившись в высоком эпосе Лукреция с «ученой поэмой», о которой речь дальше). Любовные и автобиографические мотивы выделились в лирические жанры («преднеотерическая» поэзия Левия и кружка Лутация Катула). А то, что осталось, т. е. популярно-этические рассуждения с критикой современных нравов, образовало новый жанр, достаточно четкий и по содержанию, и по форме, – классическую стихотворную сатиру Горация, Персия и Ювенала.
Из всех этих новых литературных форм наиболее важными для самоопределения поэзии в системе римской культуры были формы лирические: в них индивидуалистическая окраска «досужего» мира выступала еще определеннее, чем в сатуре. Эти лирические формы складывались опять-таки под влиянием греческой поэзии, и опять-таки не классической, усваиваемой через школу, а живой, усваиваемой через непосредственный контакт. Здесь было два пути влияния. На уровне «высокой» поэзии это было освоение жанра эпиграммы: не входя в школьный канон, он ощущался достаточно традиционным и в то же время изысканным и светским. В римской поэзии на нем сосредоточились Лутаций Катул, Валерий Эдитуй, отчасти Порций Лицин (а до них – все тот же Энний в знаменитой автоэпитафии), иногда называемые, достаточно условно, «поэтами кружка Лутация Катула». На уровне низовой поэзии это было освоение неведомых нам александрийских эстрадных песен, лирических и эротико-мифологических; в римской поэзии на этом сосредоточился Левий, чьи отрывки «Эротопегний» обнаруживают удивительное разнообразие неуклюже-песенных размеров и манерно-нежного стиля; а потом едва ли не отсюда пошла мода на любимый неотериками 11-сложный фалекиев размер, в книжной греческой поэзии довольно редкий. Обе эти струи сливаются на исходе нашего периода в творчестве неотериков: в корпусе Катулла фалекии (среди других полиметров) составляют начальный раздел, эпиграммы – заключительный раздел, и поэтика их очень различна: эмоционально-рефренная в первом случае, рассудочно-пуантная во втором (что особенно видно, когда в полиметрах и эпиграммах разрабатываются одни и те же темы)[17 - Эта резкая разница поэтики «полиметрического» и «эпиграмматического» Катулла все больше проясняется после работы: Weinreich О. Die Distichen des Catull. T?bingen, 1926.].
Наряду с этой разработкой новых лирических жанров поэзия образованной элиты переосмысляет старые, эпические. Если прежние анналистические поэмы писались для пропаганды в массах и для угождения знатным покровителям, то теперь досужие аристократы сочиняют маленькие мифологические и дидактические поэмы (опять-таки по александрийским образцам), не имеющие никакого отношения к res romana (это не negotium, a otium!) и предназначенные лишь для щегольства собственной ученостью и вкусом в кругу равных ценителей. Мифология давно разрабатывалась в римской поэзии (на ней держался жанр трагедии), но до сих пор эти произведения рассчитывались на публику, не читавшую греческих образцов, а теперь – именно на тех, кто может оценить точность передачи или изящество отклонения от подлинника. Противопоставление нового эпоса старому было программным: когда Катулл (№ 95) прославляет «Смирну» своего друга Цинны, то не упускает случая попутно выбранить поэта-анналиста Волузия и припомнить александрийскую неприязнь к большому эпосу Антимаха. Не обходилось без неувязок: культ аристократической небрежности импровизированных «безделок» (Катулл, № 50) не согласовывался с культом ученой усидчивости над трудными поэмами, и стихотворцам приходилось менять маску на ходу. Новомодным эпосом развлекались не только такие откровенные эстеты, как Катулл и Цинна с их друзьями: Цицерон, порицатель этих «подголосков Евфориона» («Тускуланские беседы», III, 45), в молодости написал и «Главка», и «Альциону», и перевод Арата, высоко почитаемого в Александрии.
Новомодный эпос не обязательно был сжат и темен: к его потоку принадлежали и перевод «Аргонавтики» Варрона Атацинского, и даже, возможно, перевод «Илиады» Матия. Крупнейшим художественным достижением в этой области осталась поэма Лукреция «О природе вещей»: ее дидактическое содержание подсказано эллинистической модой, ее языкотворческие эксперименты – вполне в духе современников-неотериков, круг ее читателей – заведомо узкий и избранный, посвятительные обращения к Меммию свободны от клиентской комплиментарности, а исключительной силы пафос, не имеющий равных в греческой поэзии, – это пафос отвращения к общественной жизни, эпикурейского ухода от negotium к otium. Парадокс: эпикурейство больше всего убеждало избегать страстей, а Лукреций проповедовал его в поэме со страстностью, которая стала знаменитой. Это – от несовпадения культурных традиций: в философии его образцом был Эпикур, а в поэзии – старый Эмпедокл, в Греции почти забытый.
В предыдущем периоде существования римской поэзии она не была включена в житейские темы: ни историко-героический эпос для школы, ни мифологические и вымышленные сюжеты для сцены не имели никаких точек соприкосновения с повседневной римской действительностью. Только освоение «досуга» позволило ей обратиться к современному римскому материалу во всей его широте. Но оно же придало этому обращению известную односторонность – «досуг» противополагался «делу», и поэзия досуга оказывалась критической по отношению к «делу». Греческая эллинистическая поэзия в подавляющем большинстве образцов была безмятежной; подражающая ей римская поэзия II–I веков – вызывающе воинствующей. Сатира с самого начала берет своим материалом худые стороны человеческой (т. е. общественной) жизни: «О, заботы людей, о, сколько в делах их пустого!» (Луцилий, фр. 9). Сатирик смотрит на общественную жизнь извне, как досужий посторонний человек; по существу, таков же и Лукреций, предлагающий эпикурейцу смотреть на жизнь, как на бурное море с достигнутого берега (II, 1–14). Но для сатирика носитель худого – все же третье лицо, «он». В лирике, выделившейся из сатиры, положение сложнее. Здесь также сколько угодно инвектив против третьих лиц – сборник Катулла пестрит такими бранными стихотворениями. Но наряду с этим Катулл столь же готовно приписывает такие традиционные недостатки, как распущенность, легкомыслие, тщеславие и пр., самому себе, выставляет их напоказ, бравирует ими; для него носитель худого – не только «он», но и «я» (ср. державинское: «Таков, Фелица, я развратен! Но на меня весь свет похож…»). В какой мере это было подготовлено самоописаниями Луцилия, не совсем ясно; во всяком случае, непривычных читателей это вводило в большой соблазн, и отсюда являлась неприязнь к неотерикам со стороны такого судьи, как Цицерон. Этот антиобщественный пафос поэзии, выворачивающей наизнанку все традиционные римские ценности, противостоял общественному пафосу прозы Цицерона, Цезаря и Саллюстия: литература по формальному и по идейному признаку делилась пополам взаимодополняющим образом.
Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров
Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров
Занимательная Греция




 4.67
4.67