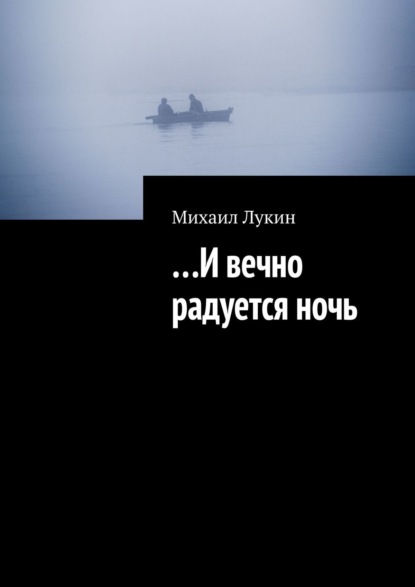По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тогда не заходи ко мне совсем! Слышишь?! И никто пусть не заходит – не нужно никого мне! Замуруйте дверь, заложите камнями, засыпьте песком – делов-то! – оставьте окошко лишь для хлеба, воды, новостей и колкостей.
Небрежно-снисходительный взгляд водянистых рыбьих глаз… и только.
Фрида и не делает ничего эдакого, только носит таблетки, воду для умывания в тазу, кофе, растапливает изразец, заглядывает в горшок, да вот так разводит руками, порой с ещё более многозначительным пожиманием плеч – это её забота, предназначение, смысл бытия, даром, что она при мне сиделка. Словом, плечи ходят вверх-вниз, а я всё гляжу на нее, и кажется мне, она только и рождена для этого, и её даже не научили разговаривать.
Но легонький толчок, будто некто пробует – заперто ли? – и вдруг… с тихоньким скрипом нараспашку дверь, серый проём хищно скалит зубы и, шипя, выпускает язык… Чудеснейший прокуренный воздух комнаты разбавлен едким запахом некоей местной примочки, чем-то спиртосодержащим, аж до рези в глазах. Обход – не поздновато ли? Постой-ка, но ведь Фрида, если мне это не привиделось, уже была! Соскучилась, бедняжка, хе-хе?.. Ну, что уж тут, проходи, проходи, милости прошу…
Но мелькающий в расселине двери силуэт не побуждает ни к чему, – ни к любопытству, ни к ненависти, – переворачиваюсь на бок глазами к стене, и ковыряю ногтем краску от скуки. Издеваться и подшучивать над сиделкой не доставляет волнения больше, нежели, мысль об умершем воробушке, преисполненный стойкого равнодушия, я больше не испытываю к Фриде даже предубеждения и уж точно не желаю восставать на её общество – есть она, и хорошо, нет – тоже ничего. Все движения однообразны – сначала топтание в предбаннике, шуршание сухонькой ладошкой по стене, а далее… Далее выкладываются на стол вода и таблетки, или что там имеется на подносе, и, если не выкажет насельник какого-либо особого пожелания, и горшок его пуст, с фривольной фрикцией плеч разводятся руки, и столь же неторопливо покидается комната. Надоедает ли ей самой от века делать одно и то же, пусть и не впопыхах? Кто её знает, что ей надоедает, а что нет? Кто знает, что чувствует она, способна ли к чувствам вовсе?!
Фрида…
– Входи, Фрида, добро пожаловать, – не оборачиваюсь, – прочь смущение, чувствуй себя, как дома. Хотя это и помимо того твой очаг! Признайся, ведь ты живёшь прямо здесь, у меня под кроватью, верно? То-то слышатся оттуда изо дня в день дыхание, шорохи. Но, хоть убей, не возьму в толк, как проникаешь ты туда невиданной-непуганной? Раскрой секрет: сжимаешься ты, растягиваешься, или складываешься пополам? Что это ты сопишь там, Фрида, я давно понял, но как, каким образом?! Выбирайся как-нибудь посреди ночи, дорогая, не страшись – видишь ли, я маюсь бессонницей, и простой разговор, порой, даром что и с тобой, может быть спасением. Да, посреди этой вечной ночи! Ничего особенного: рассядемся – в ногах нет правды! – почадим, разопьем виски в прикуску с лёгкой малозначительной беседой как в обычае у людей благородных. Сможешь ведь ты хоть парочку слов выдавить из себя, хоть два-три словечка – о, знаешь ли, в свете невежливым считается отвечать молчанием на вопросы и не отвечать действиями на действия? Они все там ходят и раскланиваются друг с другом, хоть бы и терпеть друг друга не могут – всё это за глаза – иначе нельзя, иначе это невежливо, неблагородно, вот как. Представь себе, будто здесь светский раут, Фрида, и для тебя всё разом прояснится – тебе легко и просто будет исполнить мою просьбу, и всего лишь поговорить со мной, вежливостью ответить на вежливость… Ты куришь сигары, Фрида? Нет? Ах, ты только носишь судна и утки за старичьём, ты молчишь и молча свысока презираешь нас. Но разве ты не отдыхаешь никогда? Кто же тогда вздыхает под кроватью?
Кошачьи невесомые шаги по комнате… Смолкаю со своим вздором, придерживаю слабое дыхание, сглатываю слюну – иначе не разобрать. Чудеса! И половица-то не скрипнет! С каких это пор Фрида перестала громыхать, как слон, с каких пор явление её, внезапное и ожидаемое, не сопровождается ударной волной и возмущениями звука?
И всё ж таки, она это, Фрида – кто может быть помимо?! – здесь… Лёгким дуновеньем подбирается к окну, затем обращается к столу – бумаги мои шелестят, словно жалятся, как нарушен их покой. Неужто, велено ей прибраться там? Или же это собственное её устремление? Или… шпионит?! Что-то новенькое: никто прежде не покушался на мои мысли так непринужденно.
Дыхание усиливается, и усложняется, в груди тихонько клокочет – пытаюсь успокоиться, но тщетно. Где-то пробуждается Боль… Постоянная в своих пристрастиях – едва спокойствие снедается хоть толикой волнения, она – тут как тут, Боль! И я приветствую мою Боль в который раз, а с тем, съёживаясь, зарываюсь поглубже в тестоподобную перину.
В молчанье – убийственный рок… Стоит ли испытывать терпение, её и собственное?
– Или же вот сигарный клуб – весёленькое место! – два с половиной алкоголика, да с десяток трупов, да-с, ходячих цилиндрических мертвецов с членами на шарнирах и подшипниками в шее, позаскорузлее и меня, и тебя, не дышащих и не мыслящих, а во множестве производящих полусгнившими лёгкими клубы дыма да потемневшими губами – прописные истины. Нам двоим самое место там, Фрида, мы приглашены и станем самыми дорогими гостями! Подумать только – две родственные души, я и ты, только и знающие, как злобствовать на мир и его обитателей!
Любопытство воспламеняется: поглядываю на стену – хмурый силуэт на фоне истерзанного скорбной дрожью огня. Бывало, казалось мне, именно так вторгаются в мир живых тени давно покинувших его – не через ведовство и чернокнижие, не посредством столоверчения, а именно так. Как ещё разглядеть их, если не на стене, чёрным фантомом, остовом несбывшихся надежд, осколком прошлого, эхом тёмного леса и пустынных гор? Как ещё самим духам обратить внимание на себя? Лишь в сумерках, и лишь обернушись сотканными из теней плащами… И лишь впечатлительным натурам, видимо, дано разглядеть и понять их чаяния. Вот и воскресали они, то и дело, в моём юношеском воображении, едва, будучи в темноте и полном одиночестве, предавался я думам. Неодолимо притягательно, даже сладостно, быть средь них, слушать их речи, скорбные жалобы, наветы, заговоры, и обретать призрачность на глазах, и становиться одним из них, в конце концов.
Господи, а чего они только ни нашёптывали мне!
И эта тень на стене… принадлежащая, вероятно, Фриде, а, может быть, и нет, будто живая, но, конечно же, серая и холодная, расскажет, что-то? Вновь открываю рот – птичкой-невеличкой трепещет на кончике языка вопрос о тьме и предопределении, который на выходе, презрев собственную прелесть, окажется очередной злобной мерзостью. Открываю и, сделав лишний, бессмысленный вдох, закрываю – к чему всё это?
Молчит, робко дышит, будто страшась, шелестит записями на столе – сколь интересно доверенное мною в часы вдохновения бумаге, сколь пленительно сокровенное! Многое из того я уж и сам-то позабыл, но, кажется, кроме мыслей, были там кое-какие стихи.
Стихи, да!
– Если нравится, и если захочешь – почитай мои стихи, я дозволяю…
Но вдруг, вздрогнув конвульсионно, гаснет пламя свечи, и кромешная тьма насильно кутает комнату тёмно-серой, ворсом наружу, шалью. Гостья вскрикивает невольно, и, видимо, выскальзывает листок бумаги из руки её, это первый раз за долгое время, что слышу, осязаю, проглатываю и перевариваю я Фридин голос – её ли, о Боже!? Возмущение воздуха, смехотворные проклятия, остервенело-отчаянные шлепки в сторону двери… Но тьма не отпускает – и вместо выхода, встречается лбом она с придавленным порогом.
Новый возглас, теперь боли, жалобный, но подавленный – секундное замешательство, искры из глаз…
И тогда, поддавшись вспенивающему кровь порыву, вскакиваю, как могу скорее, и… жаркую пятерню – гнусно, беззастенчиво – на плечо.
– Вот и попалась, воришка! Брысь под кровать, живо, туда, где ты обитаешь!
Судорожное лукавое безмолвие: мысли вихрем носятся в голове, хотя прежде еле ползали. Какое худенькое плечо – каким образом сменяла ты наковальню без молота хрупким изяществом, Фрида? Где боксёрская стать, бульдожья челюсть?! Где скупая немая ярость?! Спёртая тишина комнаты в лохмотьях несвежего тяжелого дыхания, короткая борьба с тщетными попытками вырваться… Куда там – пальцы, хоть и немолоды, лишь немногим утеряли былую хватку и гибкость – им бы чуть выносливости да воли!
Невыносимо… невыносимо!
– Пустите, пустите, ради бога, – неведомый девичий голос обезображен гневом и испугом, – ничего дурного… не желала… лишь посмотрела.
Это явно не Фрида, как мне видится, ведь Фрида – немая, но кто же?! Мгновение… и разум даёт слово непременно узнать, что за голос это, откуда, и каков будет в состоянии покоя.
Неожиданность истончает пальцы, бросает в дрожь, и воришка, пользуясь этим, выскальзывает потихоньку; треск на плече, швы одежды расходятся, и невольно ногти мои впиваются в обнажённую плоть.
– Ай! – сдавленный исступлённый крик.
Но долго ли совладаешь с молодостью?!
И – кричать не получается – сиплю куда-то во мрак, где должно быть её лицо, первое, что приходит в ум:
– Пущу!.. Обещайте… явиться завтра! Обещайте! Только слово…
И пуще прежнего сжимаю пальцы, из последних сил.
Ей очень больно – верю, верю! – голос захлёбывается, перетекая в стон:
– Обещаю, – обжигает взволнованное дыхание, – пустите!
Что ж, томить дальше? Прожигать лихорадочным взором слепое пространство в надежде на большее? Бессмысленно – всё одно вырвется мышка, особенно если кот стар и удручён! А так… хоть будет повод к дурацкой надежде, что не всё ещё так худо.
И изобразив удовлетворение ответом, пускаю плечо – только не надо оваций!
Тут же исчезает сумеречная гостья прочь – дверь порывисто ухает за спиной, немолчно свидетельствуя, что всё это не сон. И рождённый страстным бегством вихрь сметает со стола половину моих бумаг, а сигарный пепел, должно быть, метелью в воздухе, и осыпается на пол. Ну, и пускай!
Совсем без сил, грузно, тягостно опускаюсь на пол в том же месте у двери, где держал её, лже-Фриду, коварную самозванку, рывшуюся в моих бумагах. Разумеется, плутовка и не помыслит выполнять данное обещание, и её правда будет в том, ибо слово, полученное под давлением, разумеется, не имеет никакой силы; она счастлива вырваться из цепких объятий, и пошла на хитрость – кто осудит её?!
И она не явится завтра, ждать тщетно, не явится и не скажет, торжественно сверкнув глазами, забрызгав гневом: «Вот, я исполнила обещание! Что теперь?». Не явится!
Что дальше? Да ничего, Господи, ничего. А появись она, так стал бы разве я выпытывать её о целях появления в моей комнате и в том, что называется теперь моей жизнью? Ни в коем случае! Я обещаю это, не ей, а самому себе, чтобы не сорваться.
Но что бы сделал ты?
Что? Спросил бы о её имени, всего-то… Ничтожная, вряд ли невыполнимая малость!
И ты думаешь, она бы ответила?! Тебе, насквозь больному и порочному человеку, своими ангельскими устами, горячим молодым дыханием? Ха-ха!
А чем в остальном Лёкк дурнее иных?.. В чём святее, и в чём порочнее?
И ты бы предложил ей, как Фриде, сигар и выпивки, либо чего-нибудь большего?
Отчего нет…
Да, ты неисправим, хоть и стар! И, видимо, складываешь те же самые стихи, что и в юности, разве что прежде они были переживанием, а теперь – всего лишь память.
Ледяной пол, бррр… Странно – прежде не замечал этого, да и вдобавок Хлоя прислала мне джемпер и тёплые носки, чтобы грядущей зимой не схватить мне ангины и не помереть прежде срока. Добрая Хлоя! С некоторых пор она считает осознанное стремление к смерти преступлением, если не грехом – вот же новости! – и всячески, всем существом, противопоставляется этому. Но отчего-то она решает всё за отца, при том, что я и так одной ногой в могиле, неважно случится ли это благодаря простуде, вопреки ей, или моя собственная болезнь выжжет нутро где-то к грядущей весне. Да, где-то к весне, не раньше, и не позже… О, как же долго!
Хлоя… Господи боже, Хлоя!
А как эту зовут? Вот, если бы случилось невообразимое, и завтра явилась бы она ко мне, я спросил бы её об имени, и ничего кроме, пусть не беспокоится. Она бы не ответила, знаю… Что ж, я не горделив и выдумал бы имя ей, назвал, как угодно мне; пожалуй, я могу сделать это и теперь. Ну, ка… Думаю, её звали бы… Ольгой. Ольгой, почему нет?! Выстраданное чаяние – и отчего бы судьбе, скажите на милость, не исполнить его? Ольга! Да, Ольга, только Ольга! Приходи завтра, послезавтра, месяц спустя; буду уповать на исполнение обещания, как голодный истощённый зверь ждёт весны и пробуждения жизни. Разве что весна мне ни к чему, а только лишь она, Ольга.