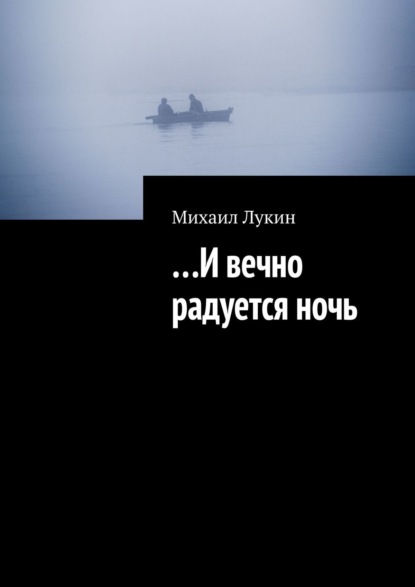По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В тишине под моей кроватью вновь… вздох и, кажется, смешок. Смешок?
– Молчи, Фрида! – возмущаюсь. – Не вовремя подаёшь ты голос. Не до тебя теперь… Память… ты только отпугиваешь память!
Да, воспоминание пробуждается, – то ли кусачий холод жалит снизу, то ли ветер пролез-таки сквозь щели в старом окне, – но что-то побуждает разум повернуть вспять, обратившись к минувшим временам, временам уныния и скорбей, моим последним годам в России. Вспоминаю маленькую Ольгу, о которой, не удержавшись, написал в книге, хоть она и просила не делиться ни с кем поверенным мне – а тут, целая книга! Вот уж чего не хотел бы, так это того, чтобы вернулась она сумеречной тенью, или той, что засматривалась сегодня на мои записи, кем бы та на самом деле ни была, это точно, – мёртвых нельзя тревожить, – но память редко подчиняется чувствам, даже напротив, точно назло, зачастую противоречит им. Не хочу видеть её воскресшей, чёрт побери, но так хочу, чтобы вечернюю гостью звали именно Ольгой… Ничего не кроется за этим – просто хочу потешить слух именем, которое слыхал бог весть когда.
Вот и сейчас, неистов, несуразен, переиначиваю на разные лады его, – русское слово непревзойдённо мелодично! – язык путешествует по нёбу, окрашивая заиндевевшей нежностью каждый звук, каждую нотку: Ольга, Ольга, Ольга… Думаю, что устану рано или поздно, но пока усталости нет и следа.
Ольга, святая Ольга… Двенадцати зим от роду лишилась невинности: некое чудовище наложило на неё свою лапу и затащило прямиком в ад. Впрочем, поначалу всё чудилось раем ей, либо его предвестием, и представляла себе она едва ли не апостола пред лицом своим – верно, Андрея Первозванного, раз уж он был у неё первым. А я не был ни вторым, ни третьим для неё, не был никаким; она была подругой мне, близким-близким человеком, родственной понимающей душой, и когда глаза её увлажнялись (а это случалось непроизвольно и часто), кулаки мои сжимались от бессилия, грозя неведомому, затерянному во мгле времён, недругу, и я явственно представлял себе, как вырываю сердце этого её апостола и топчу его ногами, а у неё, видевшей это, просыхают слёзы. Но, как оно часто бывает, всё случилось слишком поздно, в том числе и наше с ней знакомство. И это теперь знаю наверняка, что записанное в неких неведомых никому скрижалях случается неизбежно; тогда же… в муках изводил себя, кусал локти, что не было меня с ней рядом прежде в качестве отца, старшего брата, да кого угодно. Глядя на эти терзания, Ольга только растерянно и виновато улыбалась, и пожимала плечами, и докасалась трепетно моей руки, а в один раз, будто бы в утешение, обмолвилась, что собственный отец как раз таки и был тем, её «первозванным», и что ни на мгновение не мнится ей, будто бы столь «сильна» могла быть моя «привязанность» к собственному ребёнку. Да, не вздыхай так, Фрида, любезный друг, ясноглазая валькирия: с тех самых пор, до глубины постигнувшему весь гибельный ужас случившегося, именоваться отцом ей для меня было сродни кошмарному сну.
И потом я поведал о ней – каюсь! – доверил историю Ольгину терпкой, пахнущей табаком и безразличием, бумаге, наперекор тому, что ей бы пришлось это не по нутру. Под вымышленным именем, под иной личиной, но поведал.
Зачем я сделал это?
Выгораживание её глупостей, и обеление собственного бессилия – назвать ли это иначе?! Вероятно, мне нужда была выговориться, стряхнуть с себя невообразимую тягость Ольгиной откровенности, а с неё самой – гнетущее уныние. На деле же вышло, что ни одна из моих благородных целей не была достигнута, и в который раз любое человеческое благонамерение было обращено в прах, подвергнуто осмеянию, распято на кресте без того, чтобы быть снятым и преданным земле. Я просто написал о ней – бездумно, преступно, без зазрения совести! Себя полагая отчасти виновным в её тревогах и в её печали – в чём была моя вина, ведь я и не знал её прежде?! – хоть чем старался помочь, но вряд ли в этом был хоть какой-то смысл. А в чём есть смысл, если разобраться?
Маленькая Ольга с тех давних пор была для меня вроде совести…
Хорошенькая такая совесть, чистая и святая, точно Мария Магдалина. Не кривлю душой – в помыслах и устремлениях не было равной Ольге по чистоте, и вовсе уж не раскаявшейся блудницей представлялась она; слишком рано и не по своей воле вкусив запретный плод с Древа Познания, она обрела себя в вечности исканий, всегда чреватых ошибками и заблуждениями. Уже в нежном возрасте чересчур многие мужчины пользовались её расположением – именно пользовались! – и она отчётливо знала, что ей пользуются, точно носовым платком, однако, заразная бацилла чувственной страсти, занесённая извне в её хрупкое тельце, не подразумевала (да и не могла подразумевать!) возможности отказа.
В давние дни мы гуляли по кладбищу, ещё там, в России. Старинный и почти заброшенный, погост навевал мысли определённого свойства о вечности и предопределении, и кресты торчали там из земли, точно старые умирающие деревья, не всегда ровные, но всегда вызывающие горькое сочувствие. Воодушевление овладело мною: всякие причудливые истории об упокоившихся там, выдумывал прямо на ходу, мельком взглянув на имя усопшего и эпитафию, если возможно было их разобрать. Там были и потемневшие от времени и обросшие мхом каменные плиты с различными резными узорами – их вид вызывал во мне больше чувств, так как на них нередки были объёмные росписи о важности того или иного человека, о принадлежности его и состоянии – и жалкие, тронутые ржою, покосившиеся кресты. Но и того было вполне достаточно, и умелому сочинителю нужно было лишь как можно лучше окрасить сухие слова о таком-то и таком-то «рабе божьем», либо же, за неимением лучшего, объяснить, как и отчего скорбное безвременье повело надгробие в сторону – была ли для меня в этом проблема! И птичками с ветвей слетали с горячих уст слова, я едва успевал придавать стройность мысли. Исполненная бесконечной верой, Ольга плакала, где нужно было плакать, и смеялась там, где было забавно.
Потом вдруг произнесла едва слышно:
– Возьми меня, пожалуйста…
И ничего больше, ни звука! Губы остались сомкнуты, выражение лица – отстранённым, мечтательным. Кто сказал это – ветер, листья, трава, мертвецы в своих могилах?.. Нет же, нет!
И, повтори она это, пусть даже и ещё тише, я бы держал ухо востро, и наверное, сделал так, как она просила – набросился бы на неё прямо там, среди утонувших в траве могил, распалённым чудовищной жаждой юной плоти монстром. Но она хранила молчание, и робость одолела её, только маленькая грудь ходила ходуном, да крупная вена на шее порочно пульсировала под смуглой кожей. Скрыл своё преступное смятение и я, ужаснувшись в какой-то момент того, насколь близким к яви стал былой кошмарный сон.
Возможно, я испытывал чувство к ней, слишком светлое для животной страсти, даже очень возможно, и оттого не смог бы свершить то, что те другие, которым она доверилась. Возможно, это было близко к влюблённости, возможно – кто способен сказать об этом по прошествии стольких лет! – ибо память порою напрочь искажает то, что прежде казалось ровно-безупречным, и спрямляет сломанное.
Но она промолчала, боязливо оглянувшись, словно бы мёртвые навострили уши и слушают, а, быть может, и смотрят на нас во все глаза. Не страшась мёртвых, я осмотрелся, тем не менее, по сторонам, а затем, недолго думая, продолжил нести легкомысленный вздор о тех, кто был там погребен, в душе убедив себя, что Ольгины слова мне лишь почудились. Мало, будто, со мной происходило подобного! Затем лишь, много времени спустя, на пароходе, коптящем небо над Женевским Озером, услышав щебетание двух влюблённых, русскую речь, родную, понял я, что говорила мне тогда Ольга и то, что это был голос её души.
Вот так… Голос души: спонтанный возникновением, он легко проникает внутрь того, кому предназначен – немногие, даже и мудрецы из мудрецов, могут понять его. Что за извечная беда – понимание!..
Фрида, ездила ты пароходом… вот хотя бы на север?
…Белые ночи, северные сияния, звёзды и бескрайнее море, от которого так и веет первозданным холодом, пред которым ощущаешь себя не то, что вошью, – даже не песчинкой! – молекулой, атомом в первозданном хаосе Творца. Любому порыву ветра ничего не стоит сбросить тебя с палубы, перевернуть всё это создание человеческого «гения», ревущую и коптящую дымом машину, пароход, перевернуть и затопить, а пассажиров отправить на корм рыбам. Когда осознаёшь это всем куцым умишкой своим, то пугаешься сперва, затем же… преисполняешься восторга! И любопытно порою: а коли уж случилось бы так, такая катастрофа, выбрался бы я сам на берег, или через рыбье нутро месяц спустя очутился бы в желудке какого-нибудь норвежского социал-демократа?..
Я напугал тебя? Всхлипываешь, дышишь часто, прерывисто… Ого, я взволнован – это может быть небезопасно! Нет-нет, не доверяйся мне, ради Бога, задвинь бредни мои подальше – всё, что хорошо одному, может быть губительно иному. Езжай… непременно езжай пароходом на север, не пожалеешь; главное – помни о вероломстве морской болезни и её последствиях.
Так о чём, бишь, я? Ах, об Ольге! Да, теперь бы я развлекал её вовсе не мёртвыми, не могилами и крестами, ничем подобным, но холодным очарованием Гудбрандсдаля и мыса Нордкап.
Сгустилась ночь – бездонный колодезь мрака. Ночь гримасничает из-за запертого окна, подмигивает звёздами, скалит тусклым месяцем рот, ночь призывает на серьёзный разговор – смотри, дескать, я – вечная, а ты, будь хоть творцом из творцов, скоро исчезнешь, растворишься, уйдёшь навек, и кто вспомнит тебя… Нет причин вступать в споры с ней, всегда и во всём – её правда, но и потешаться надо мной – не позволю!
Свеча истлела, но у меня в них нет недостатка – благодаря Хлое!
Где свечи? Не помню… Кажется, в перине, в коробке из-под сигар, но тащиться к кровати… бррр, далеко, я уж пристыл к ледяному полу. Ах, нет же, нет, они под половицей в углу, а вовсе не под подушкой – но это ещё дальше! Да и какого пса нужда в свечах, коли здесь присутствует электричество, одно из радостей двадцатого века!? Вот сейчас включу все четыре лампочки разом и изгоню тебя, проклятая, хочется или не хочется тебе!
Затем припоминаю вдруг с некоторым сожалением: нет лампочек в люстре под потолком – Фрида хотела вкрутить, но я не позволил… Родилась, затем окрепла, блажь: ударится в варварство, шаманизм, заклинать огонь, живой, не нанизанный, точно на солдатский штык, на спираль лампы, и я наотрез отверг всякие лампочки, а убеждать, зная, как это бесполезно, не взялись.
Смеёшься… И впрямь забавно: ничего в этом жалком теле от варвара, одна беспомощность… А тех, от кого так же мало толку, как от меня, знаешь, в былые времена убивали, не так ли? Просто-напросто отводили в лес и бросали умирать. Нашёлся бы тот, кто покончил так со мной…
Ты можешь сделать это, дорогая? Вот Хлоя не может, а ты? Также?
Тогда убирайся к дьяволу!
II
Утро привечаю в кровати, мутью продирая глаза.
Сном ли обозвать ночное свидание, явью ли? Полузабытьём – вернее всего… где тьма, и где туман давно отмерших дней… И где сам себя баюкает человек сказками прошлого, им же и выпестованными.
Как случилось оказаться там, на кровати? Я был перенесен с пола – сам бы ни за что не вернулся!; возвращаться – ни желания, ни возможности… Это, верно, Фрида – кто ж ещё?! – одна либо с чьей-то помощью. Фрида уже была здесь: изразцовая печь пышет жаром, на столе в хаосе бумаг – таз и кувшин с водой для умывания, чашечка кофе, простывшего, разумеется, по моему вкусу, и зёрнышки таблеток – красная и две цвета неопределённого, как всё, чему вряд ли стоит доверяться, ближе к белому. Эти белые, неведомо от чего – их отбрасываю – а красная… Крохотное пунцовое пятнышко, средоточие власти, партитура, по которой заиграет оркестр, когда кровь, всколыхнув сосуды, расправив знамёна, поскачет веселее. О, небо! Благословенно то, без чего теперь нелегко обойтись!
А не мог ли кофе простыть сам по себе со вчерашнего дня, ведь я и не притрагивался к нему, и он упорно выстоял всенощное бдение одиноким актёром-трагиком? Невозможно, ведь и печь, и таз, и таблетки… да, чёрт возьми, таблетки, вот оно всё, тут как тут – Фрида не пренебрегает мной. Я же, напротив, хоть и не сомкнул глаз, каюсь, с большим усилием могу припомнить её появление. Скользнула, кажется, по стене согбенная, отдалённо напоминающая человека, тень…
И вот же, с отчаянным трепетом потянувшись к столу, осознаю, как больно мне, и постигаю невыносимое расстояние от кровати до стола. Пробудившись вместе со мной, и теплясь до поры, не даёт Боль воспрянуть и сковывает неверное нетерпеливое дыхание. Боль… Косматая старуха с ножом, взгромоздясь на меня, пронзает грудь, и медленно-медленно поворачивая рукоять, глядит мне прямо в глаза. Неправдоподобно медленно… Вот что есть Боль! Господи, уберите… уберите – нет мочи видеть! Это лицо, этот запах, это постылое удушье… Если б возможно словами было вычертить всё злободневное чувство, если б буквицей обратилась мгла, слогами зажурчали фразы, сливаясь в мудрёные озёра предложений, не вышло бы чего-то не менее грандиозного, чем «Война и мир» графа Толстого?!
…И напряжены мускулы, натянуты струнами, тонко пищат; собираюсь силами, один-единственный могучий рывок, стоивший многого – уродливая старуха летит прочь и я вместе с ней, кубарем с кровати. Пружины отзываются протяжным жалобным стоном.
Больно…
К столу… на четвереньках к столу – шлёп-шлёп! – старуха здесь, лопочет что-то, шамкает, шуршит, но не отстаёт, шаг за шагом, метр, два, три – какая огромно-нелепая комната, хоромы – что за нужда мне в такой?! Это всё Хлоя расстаралась, выхлопотав родителю самую большую. Она переводит за неё изрядную сумму, она хочет, как лучше, а выходит… отец не в состоянии скрыться здесь от преследующей по пятам его чёрной старухи-Боли.
Но вот, наконец, она, красная! Хватаю с жадностью её, невиданной смертным – как бы кто не лишил! – держу неверно-трясущейся рукой, чуть не обронив, заглатываю, и всё…
Отвлечённо тикают часы, громоподобно щёлкают стрелки: десять минут – вытерпеть, вынести… десять жалких минуточек, всего-то, точь-в-точь, ни мгновением больше, ни мгновением меньше. Зажмуриваюсь, втягиваюсь в себя, мучительно скулящим клубком конвульсий на ледяном полу – старый побитый пёс – и зубы скрипят, и ногти скрежещут по доскам пола; и считаю… считаю… минуты, секунды, мгновения…
Проходит время…
Фрида, ты всё ещё здесь, под кроватью? Ответь же! Безмолвствуешь… Но меня не провести – я-то знаю, что здесь… Благодарю, что прогнала старуху, благодарю – тебе обязан своим спасением! Если ты только видела со стороны меня, то одной своей жалостью и состраданием пробудила во мне чувство вечной признательности. Никогда, никогда больше не буду издеваться над тобой, обещаю!
Ну, или почти никогда…
***
Теперь легче, куда легче… Лишь голова позвякивает в склизкой косматой мгле, да веки пудовые – нелегко поднимать их! Замшелый воспалённый взор блуждает по комнате, по стенам и полу, не задерживаясь долго ни на чём, и выуживает кругом из постылой обстановки вещи, которым можно восхищаться. Гляди-ка: бурое пятно на салатовой стене расплывается ухмыляющейся призрачной рожицей! Что это, откуда? Картина, репродукция «Крика» Мунка, собственной персоной – ого! Логика присутствия – туманно-противоречива, и уж вряд ли гнездится в области моих желаний и пристрастий; поначалу я скупился и дорого продавал своё внимание (хоть она и пытается «радовать» меня с самого первого дня), но затем, лёжа в кровати в такие же тягостные, как нынешний, дни, начал присматриваться.
Определённо, думаю теперь, ничего примечательней и быть не может!
Отчего?
Бывает, глубокой ночью или же с утра кричу до тошноты, не всегда от боли, чаще из вредности и тоски – мне дурно, хочу, чтобы и другим было дурно также, всем тем, кто обитает в соседних комнатах, в соседних мирках. Действовать на нервы им, залезть под кожу, выпить у них всю кровь, хоть она и насквозь прогнившая – вот моя крамольная суть! И я жду, с содроганием и торжественной угрюмостью, чьего-либо участия, ответа, осуждения, проклятий и оскорблений; признаков ещё теплящейся жизни, чёрт побери, жажду я, и жажда моя священна! Но многие из них настолько плохи, что уже даже не жалуются, просто лежа по комнатам с хлебным мякишем промеж беззубых дёсен. Возможно, они не могут даже помыслить дурно обо мне, ибо просто не в состоянии мыслить! «Растения» – новое их прозвание, возможно, искренне желанное и томительное, «овощи», великая сокровищница тайны; они отрывают рты для таблеток и микстур, моргают, чтобы показать, попало им что-либо внутрь или нет, сморкаются в украшенные вензелями шёлковые платочки, поданные сёстрами… Щёлк-щёлк: зубы на полке отстучали, отпели своё, отозвавшись на умиротворяющий хруст костяшек; «овощам» нет нужды во вставных челюстях, мостах и коронках – ведь можно похлебать и бульончику!
Ненависть… Боль… Как ненавижу их, как ненавижу себя! И как пылаю, и как неистов в неприязни! Кажется, я питаю надежду воскресить мертвецов криками и шумом, побудить их припомнить свою человеческую сущность, то, что они ещё вольны в своём дыхании, но… явно не Галилеянин устало глядит на меня из зеркала. Или же… слишком скромен я: быть может, если через долгое время по смерти на кости мои кинут покойника, он вдруг оживёт?
Наша богадельня – натуральная теплица, опытная станция растениеводства, фабрика консервированных овощей! Хоть и прозванная каким-то вольнодумцем «Вечной Радостью», как значится на вывеске над входом в парадную, замысел таится в ином – в сумерках, во мгле, в гниении, в упадке – оттого сам я зачастую размениваю это имя на «Вечную Ночь», – не ближе ли к истине это? – с моей руки название притёрлось, старым стали пользоваться меньше, возможно, вскоре оно и вовсе забудется. Целый штат сиделок в белых передничках круглый день занимается культивированием давно иссохших стволов, пытаясь поддерживать жизнь там, где её уже не может быть a priori. Судя по их физиономиям, такая рутина, как пыль из старинного гобелена, выбивает из них всё человеческое, а сама моя любимая Фрида давным-давно обратилась в некое подобие броненосца или дредноута на суше. Она прёт и прёт вперёд своей большой грудью, круша в клочья все льды и айсберги, попадающиеся на пути, все её действия механизированы, в них нет души, и я думаю, так же ли она ведёт себя вне этих стен. О, роковой мир паровых машин, лампочек, гальванических элементов, о, мир потусторонний, слившийся с истинным, реальным! Не нужно ли для блаженства здесь и самому стать Максом Планком и Николой Тесла, неким бесполым безумцем, высохшим за опытами по магнетизму, с головой, синей от падающих яблок, и механизировавшим свои жизненные процессы до отвращения?