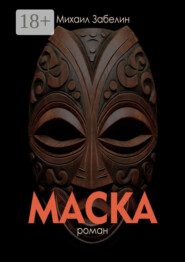По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смута. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мысль о побеге стала для него солнечным лучиком над головой, зажатым со всех сторон крепостной стеной, чистым небом, манящим из узкого дворика форта, стимулом, чтобы каждое утро обливаться холодной водой и делать зарядку, сдерживающим импульсом, чтобы не сесть от скуки за карточный стол, а откладывать деньги для побега. В военном училище он учил немецкий язык, знал его неплохо и теперь проговаривал про себя и повторял слова, фразы и целые параграфы из учебника.
Единственным слабым утешением и маленькой надеждой стали ничем не подтвержденные слухи о том, что форт готовят для каких-то иных целей и всех содержащихся в нем пленных офицеров переведут в какое-то другое место.
Тянулись дни, недели, месяцы, а слухи оставались слухами. Лишь в самом конце шестнадцатого года пришло распоряжение немецких властей о переводе всех обитателей форта №3 в лагерь для военнопленных в городе Найссе. Сборы были недолгими, а пожитки малыми: подушка, одеяло, лишняя пара белья и какие-то вещи, купленные в кантине на форту.
Лагерь пленных офицеров в Найссе никоим образом не походил на непреступный форт крепости. Не было ни высоких стен, заслоняющих небо, ни рва с водой, ни земляного вала, отгораживающего от окрестностей. По узеньким проулочкам лагеря между дощатыми заборами бродили в большом количестве группами, парами и поодиночке пленные офицеры. В отличие от форта здесь были не только русские, но и французы, англичане, бельгийцы.
Лагерь располагался на большой площади с пыльным плацом посередине и состоял из двенадцати двухэтажных бараков, обнесенных двумя деревянными заборами и колючей проволокой. У заборов снаружи и внутри стояли часовые. При входе в лагерь приткнулось небольшое каменное здание – кантина, а за бараками, также на территории лагеря, находилось несколько строений, предназначенных под склады, и сарай-цехгауз, выходивший задней стеной на улицу. По ночам со стороны улицы тоже выставлялись караулы.
Общая столовая была устроена в бывших артиллерийских конюшнях. За прежними стойлами-загородками стояли столы на десять-пятнадцать человек и скамейки. Рассаживались обычно по национальностям. Блюда были незатейливые: винегрет из капусты, картофеля и свеклы и вареная брюква.
Гулять по всей территории лагеря не возбранялось, и уже через месяц Жилин отлично ориентировался в расположении всех лагерных построек, в порядке несения охраной караульной службы и примерно представлял себе план побега.
Из германского плена пытались бежать многие, но мало кому удавалось. Остальных возвращали обратно в лагерь, так как по международной конвенции не имели права преследовать за побег, хотя и ужесточали условия заключения. Так что из рассказов тех, кто бежал неудачно, и из слухов о побегах, передававшихся из уст в уста по лагерю, поручик Жилин принял для себя к сведению две вещи: бежать лучше одному, а идти нужно пешком, ночью, не соблазняясь возможностью доехать ближе к границе поездом, сколько бы на эти блуждания по лесам ни понадобилось времени. Одному легче спрятаться или затеряться, а в поездах и на станциях – жандармы. Он помнил также, как на железнодорожной станции во время смены поездов в Восточной Пруссии сыпались на их головы проклятия, ругань и плевки местного населения, а один дряхлый, лысый старик всё пытался дрожащей рукой бросить в них камень. На помощь местных жителей надеяться не стоило, наоборот, придется прятаться от них.
У одного из офицеров он купил компас, у другого нашлась припрятанная карта местности. То, что они не выдадут, он не сомневался. В плену рядом с ним люди оказались совершенно разные по возрасту, складу характера и ума, но было то общее, что всех их, несомненно, объединяло: любовь к своей родине, стремление к свободе и офицерская честь.
Может быть, поручик Жилин и ошибался, но ему приходилось общаться в лагере и с французами, и с англичанами, и никто из них так остро, как русские люди, не страдал от тоски по родине, от оторванности от нее. Все они, конечно же, думали и много говорили о семье, о доме, показывали фотографию жены и детей, но не было в них такой душевной бесприютности от того, что язык вокруг другой и страна чужая, и поля, и леса, и города, и деревни, и церкви, и люди не те, не родные, не свои.
Единственное, что было похожим и будило сладкие воспоминания – это ночное, звездное небо. Оно было точно такое же, как дома, будто звезды эти издалека посылали привет и шептали в тишине: «Мы всё те же, у нас всё по-прежнему, всё как всегда, только тебя не хватает.» И когда сумерки уже обращались в темноту, и уже не видны были ни унылые бараки, ни часовые, лежа на скамейке на плацу, упирался он взглядом в это родное небо и предавался своим мыслям, планам, мечтам о будущем.
Побег был продуман досконально, по минутам. Оставалось дождаться лета или хотя бы мая, чтобы бежать, – зимой не дойти, замерзнешь. Судя по карте, выходило, что от Верхней Силезии до России прошагать надо было ни много, ни мало девятьсот километров через Германию, Польшу и Восточную Пруссию.
Тоскливо и уже привычно тянулись дни плена, и так продолжалось до конца февраля, когда из немецких и польских газет, которые им дозволялось читать, русские военнопленные узнали о кардинальных переменах, произошедших дома. Сначала появилось короткое сообщение об отречении русского императора и об образовании временного правительства. Потом газеты стали писать подробнее, и, как в калейдоскопе, замелькали известия о дальнейших событиях в России: о новом премьер-министре Керенском, о приказе №1 по армии, декларации прав солдат и об образовании в русской армии выборных комитетов.
Жилин, как и многие русские офицеры, был далек от политических партий и либеральных дискуссий, но всё, что касалось армии и положения на фронтах, он воспринимал близко и болезненно. Пленные русские офицеры обсуждали случившиеся перемены яростно и бурно.
– Ну, погибла теперь Россия, – вздыхал капитан Сомов.
– Я одного не могу понять, – кипятился полковник Соловьев, – как могут какие-то солдатские комитеты управлять армией, тем более, во время военных действий?
– Вот послушайте, господа, – щурился, склонившись над газетой, поручик Лядов, – комитеты ежедневно митингуют и отменяют приказы командиров. А, вот: были оставлены позиции, с офицеров срывали погоны… Что же это творится?
– Что творится? Нет больше русской армии, развалилась, – в сердцах почти выкрикнул Соловьев, – всё напрасно: и подвиги наши, и страдания.
Стремительные события, происходящие дома, дальним эхом докатились до лагеря военнопленных в Найссе и лишь подтолкнули поручика Жилина осуществить план побега в самое ближайшее время – как только установится теплая погода.
В свой план он посвятил полковника Соловьева. Его помощь была необходима для того, чтобы к вечерней поверке в бараке на жилинской кровати соорудить манекен из одежды и прикрыть одеялом так, чтобы не заметили его отсутствия. Таким образом, лагерное начальство узнало бы о побеге лишь спустя сутки. План заключался в следующем: бежать после утреннего построения из сарая-цейхгауза прямо на городскую улицу, смешаться с толпой и выбраться из города. Сарай давно пустовал и был закрыт на замок. Проникнуть в него оказалось нетрудно. Жилин заранее исследовал этот сарай и обнаружил, что в нем было узкое заколоченное окно, выходящее на улицу. Караул снаружи выставлялся только на ночь. Подготовить отверстие, чтобы потом быстро отодрать доски, не составило труда. Он приготовил цивильный костюм, состоящий из блузы и перекрашенных в черный цвет кальсон, и спрятал в узелок карту, компас, шоколад, галеты и немецкие марки.
Был какой-то германский праздник. Как предполагал поручик, на улицах должно было быть многолюдно, и он не привлечет внимания. Утренняя поверка, казалось, тянулась нестерпимо долго. Когда, наконец, все разошлись, кто куда, они вдвоем с полковником, словно прогуливаясь, направились в сторону сарая.
– Прощай, Миша, храни тебя Бог.
– Прощайте, господин полковник, Бог даст, свидимся.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: