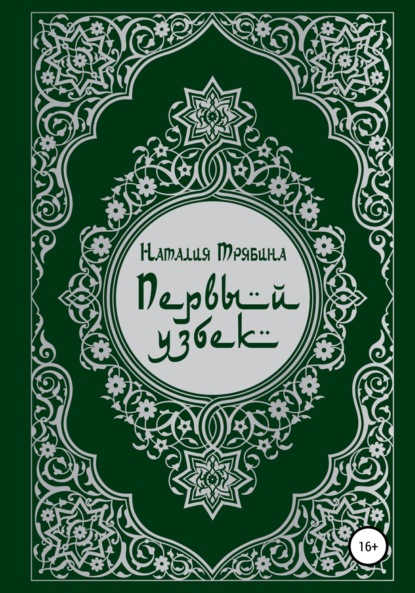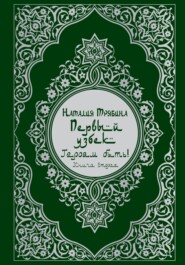По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Первый узбек
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наши каллиграфы чрезвычайно гордятся своим искусством рукописной книги. Но я считаю, что это искусство было хорошо, когда люди не знали печатного станка. До того, пока славный Иоганн Гуттенберг ещё не придумал изумительной машины, делающей книгу понятной, а самое главное – дешёвой. Переписчики книг при своей работе делают множество ошибок, иногда что-то добавляют от себя, не думая о том, что их об этом никто не просит. А почерк? Зачастую не разобрать, что за букву изобразил переписчик, какие мысли в этот момент бродили в его глупой голове. Печатные же книги проверяются и сличаются грамотными людьми, не допускающими ошибок. По одному штампу с наборным шрифтом можно сделать столько копий необходимой книги, сколько понадобится.
Печатная книга может восполнить нехватку учебников в медресе. Можно и нужно отпечатать Коран – величайшую и ценнейшую книгу мусульман. Все рукописи, хранящиеся в единственном экземпляре, следует отпечатать и распространить по нашему обширному государству. Самая лучшая бумага в мире, которой не гнушаются пользоваться другие народы, производится в Самарканде! Тогда в мактабах дети будут учиться не шесть лет, а всего два года. В медресе не будут торчать тридцатилетние студенты. Эти балбесы двадцать лет протирают штаны и халаты за заучиванием наизусть книги, потому что её нельзя забрать домой и почитать на досуге.
Али с Ульмасом проучились в истанбульском медресе Фатхи два года и прошли полный курс обучения архитектора. Они рассказывали, что все заработанные деньги тратили на книги и чертежи.
Разглядывая книги, привезенные Али, я вспоминал, что китайцы давным-давно, ещё до европейцев, придумали печать. Именно они печатают не только книги, но и картинки к ним. Наши же переписчики вставляют в свои книги миниатюры, нарисованные художниками. Господи, Твоя воля, как же отличаются плоские рисунки и миниатюры наших художников от полных объёма и жизни картин западных умельцев! Я не завидую им, я просто хочу, чтобы у нас было не хуже, а лучше. Но для того, чтобы было лучше, не нужно надуваться спесью и говорить, что гяурские штучки нам ни к чему. И всё, что есть у нас, – это дань предкам, и не более. Не нужно без конца твердить о том, что было хорошо для них когда-то – хорошо для нас и сейчас.
Пользуются же на Западе нашими кольчугами, которые с незапамятных времён изготавливают в Хорезме. Едят сахар, производимый только в Индии, пьют кофе из Аравии, носят шёлк из Китая, ходят по нашим хорасанским коврам. Почему бы и нам не позаимствовать то, что полезно и необходимо государству? Не могу убедить в этом не только придворных, но и высших чиновников – машут руками, закрывают свои хитрые морды рукавами халатов, как девицы на смотринах свахи. Нет, чтобы своей головой подумать, какая выгода от этого нововведения будет государству и польза просвещению.
А муфтии и муллы туда же – конечно, если все начнут читать и пи сать, как же они будут народу голову дурить?
Вот и делаем всё по старинке, как при прадедах. Придёт время, опомнятся люди, да поздно будет. Наша вековая отсталость станет причиной того, что завоюет нас какое-нибудь сильное, большое и более развитое по сравнению с нами государство, и будем мы в рабах ходить… Сетовать, рвать на себе волосы, пенять на обстоятельства и на плохое управление. Но не хотят они думать о том, что станет со страной после их смерти. Они думают только о том, что с ними самими станется. О детях иногда думают, но недолго и не слишком часто.
Китобдар Джалил любил книги больше детей и жены, и я подозреваю, сильнее, чем меня. Он часами мог рассказывать, где и когда приобрёл ту или иную книгу. Сколько времени выторговывал каждый медный фельс, запрошенный за книгу, сколько времени переписывалась редкая книга, сколько золота и дорогой киновари ушло на изготовление чернил, сколько художников рисовали миниатюры. Мне всегда нравились люди, которые болеют за своё дело, поэтому Джалила я любил. А ещё я очень любил и люблю книги. Единственного человека из своего окружения я называю уважительно – Джалил-ака. Не потому, что он седобородый и старше меня, а потому, что этот человек во всём поддерживает меня и мечтает о печатном станке больше, чем я. Мечтает так, как мечтает молодой джигит о любимой невесте – страстно и неустанно, денно и нощно, со всем пылом юности.
Что я могу ему сообщить? Да пока ничего. Книги наши надо печатать арабским шрифтом. Это отдельная история, и никто в подлунном мире делать этого не хочет. Слишком много разорения видели от мусульман закатные страны, и для них наше дальнейшее возвышение – кость в горле и кинжал в сердце. Переговоры об изготовлении шрифта зашли в тупик. Мы пробовали сами сделать такой станок, но ничего не получилось – буквы, сделанные из меди, размазывали краску на бумаге и производили мутный, размытый оттиск. Это привело в неописуемый восторг шейх-уль-ислама Тадж ад-Дина, твердившего, что Аллах не потерпит кощунства и не допустит печатной книги:
– Все, у кого есть глаза, видят, что эти гнусные опыты не годятся для изысканных арабских букв! Все, у кого есть вера в Аллаха, всемилостивого и милосердного убедились, что нам не нужны те вещи, которыми пользуются гяуры.
Счастью его не было предела: он ещё долго ходил по Бухаре и рассказывал всем, что опыты с печатной книгой с благословения Аллаха провалились. Что самое ужасное – люди ему верили. И если раньше все окружающие книголюбы поддерживали меня делами, то теперь если и поддерживают, то только словами, которые ничего не стоят.
Несколько лет назад мне удалось с помощью золота и обещаний всяческих земных благ, которые они получат, уговорить двух османских купцов вызнать секреты печатного мастерства, но купцы не вернулись. Я думаю, что их тела давно склевали вороны. Возможно, они втихомолку смеются над незадачливым и до глупости щедрым ханом всех узбеков. При входе в библиотеку я поклонился поясным поклоном Джалил-аке, спросил о его здоровье, здоровье семьи, детей, внуков, племянников и племянниц. Я бы спросил и о здоровье его кошки, если бы таковая у него имелась. Но Джалил-ака не любил кошек, говорил, что они могут испортить книгу, а для него это хуже смерти.
– Какие у нас новости, многоуважаемый Джалил-ака? Есть ли новые приобретения? Если есть, то откуда прибыли и сколько они нам стоили? – Я постарался, чтобы моя довольная улыбка не высветилась на лице. Я знал в подробностях о последнем приобретении Джалила-аки, но хотел, чтобы он сам рассказал об этом знаменательном для него событии.
– Есть, великий хан, как не быть, – кланяясь и прижимая руки к груди, ответил знаменитый на всю Бухару китобдар. – Есть книга, которая вам может понравиться. Давно ходили слухи о том, что после Захириддина Бабура, мир праху его, остались собственноручные его записи о жизни и деятельности. Много раз я пытался заполучить их, но ничего не получалось. Я заказывал всем купцам, следующим в Хиндустан, и вот, наконец, на прошлой неделе караван, прибывший оттуда, привёз эту драгоценную вещь. Я сам ещё не читал, только полюбовался переплётом и миниатюрами. Я оставил книгу для вашего драгоценного внимания. Стоила она тридцать полных золотых таньга. Я считаю, что это не очень дорого.
Я взял книгу в руки. Слегка коснулся пальцами переплёта из сафьяна оранжево-красного цвета, с оттиснутыми золотом буквами «Вакиат-и Бабури». «Записки Бабура»! На первой странице – портрет самого Бабура. Красивый был мужчина, жён у него было много и детей. Наследники его прославили! Конечно, можно было бы попросить эту книгу у падишаха Акбара, но зачем лишний раз просить и быть ему чем-то обязанным, когда можно обойтись без этого.
– Джалил-ака, ходят слухи, что дочь великого султана Бабура, Гульбадан-бегим, тоже пишет книги? – Меня очень радовало то, что женщина может не только читать, но и писать привлекательные для окружающих сочинения. Наши женщины получают ограниченное образование. Оно сводится к умению вести домашнее хозяйство или к способностям заниматься искусной вышивкой.
– Да, великий хан, она написала книгу о своём брате, назвав «Хумаюн-наме». Я её ищу и думаю, что с помощью Всевышнего она скоро окажется в вашей библиотеке.
– Уважаемый Джалил-ака, доставьте мне книгу в опочивальню и пришлите чтеца. Сегодня вечером я хочу узнать, что писал наш предок о своей жизни.
– Великий хан, дозвольте мне самому почитать вам книгу, для меня это будет большая честь. – Я понял, что китобдару не терпится засунуть свой нос в эту драгоценную книгу. Конечно, для него это действительно безмерная честь. Я посмотрел на Зульфикара, который незаметно кивнул. Сегодня нас ждёт пир после пира – на этот раз пир духовный, более прекрасный, чем пир телесный.
Время дневной молитвы прошло, когда мы отправились к Ахмад-Касыму, оружейнику. От него и работы его подмастерьев зависит обеспечение нукеров оружием. Не таким, каким хвастают беки на пирах: с золотыми ножнами, эфесами, покрытыми драгоценными камнями. Обыкновенными саблями, мечами, луками, копьями, пиками, секирами, кинжалами и зульфикарами. Кроме того, надо позаботиться и об огнестрельном оружии, порохе, пулях, пушках, ядрах. Проверить лишний раз никогда не мешает.
Я довольно хорошо разбираюсь в оружии. Знаю разные способы закалки лезвия, но никогда не пробовал делать это сам – мои учителя и воспитатели считали, что даже находиться рядом с кузницей для ханзаде неприлично. Не говоря уже о том, чтобы самому взяться за меха или молот, подойти к наковальне и со щипцами в руках помогать оружейнику. В бою оружие лишним не бывает, струсит молодой воин, уронит в беспамятстве саблю на землю, потом ищи-свищи, куда он её от смертного ужаса забросил. И не всякий воин может правильно заточить лезвие, этому тоже надо учить молодых и неопытных джигитов. Оружейный двор находится на окраине Бухары за крепкими стенами под охраной нукеров.
Я стоял в раздумье – приказать взять коней на конюшне или пойти пешком. Попутно пройти по базару, послушать, прочитали ли фирман о налогах и что бухарцы говорят об этом. Пока я, опустив глаза, пересчитывал кирпичи, замостившие двор Арка, Зульфикар отдал необходимые распоряжения. Невдалеке стояли двое юношей, одетых скромно и незаметно – серые чекмени, поверх на поясах сабли в простых ножнах, синие тюбетейки, руки их вольно свисали вдоль тел. Узнать их было несложно, это воины отборной тайной сотни, моей личной охраны. Мой брат лично учил их всем премудростям воинского искусства и секретным приёмам выслеживания врагов. Набирал кукельдаш их из самых низов. Брошенных родственниками сирот, детей одиноких вдов. Подбирал даже из воришек или молодых, но не совсем озверевших разбойников.
Я никогда не мог понять, почему Зульфикар одних берёт в сотню сразу, а других долго проверяет, а потом отправляет к воинам-конникам или к эшиг-ага-баши, чтобы они стали чухара. Он как-то объяснил: «Я его не вижу», что меня удивило, но спорить я не стал. Стоящих поодаль молодых людей трудно было выделить из окружающей нас толпы, туда-сюда снующей по двору Арка. И я никогда не слышал их голосов. Зульфикар же объяснил: воин, без дела сотрясающий воздух своими речами, – уже не воин. В руках одного из них были такой же неприметный чекмень и сабля, другой продолжал спокойно, но внимательно смотреть по сторонам, не зыркая усиленно, а просто разглядывая всё, что попадало ему на глаза.
Если мы пойдём скорым шагом, то успеем не только в оружейный двор, но и на пир вовремя придём. Я не беспокоился о том, что бекам придётся долго ждать меня, но это вызовет ненужные разговоры, а мне не хотелось, чтобы кто-то раньше времени заподозрил, что я без сопро вождения огромной свиты гуляю по базару как простой ремесленник.
Бухарский базар был моей гордостью – это был первый крытый рынок, построенный в Мавераннахре. Он был похож на множество тюбетеек, поставленных в несколько рядов, очень удобный, тёплый зимой и прохладный летом. А это всё Али – увидел такие сооружения у осман и предложил построить. На базаре в любой день, даже вечером и ранним утром было не протолкнуться. Народ валил на базар валом, не только для того, чтобы что-то купить. На базаре можно встретить знакомых, узнать новости, посплетничать, а то и в баню сходить. Несмотря на послеполуденное время, базар бурлил от несметного числа людей – все обсуждали фирман. Я не боялся, что меня кто-то узнает, в такой толчее легко затеряться, да и мало ли стариков в серых чекменях бродят в поисках новостей.
Вот трое купцов, каждый на пороге своей лавки, переговариваются через дорогу:
– Уважаемый Юсуф-ака, что вы думаете об указе нашего благословенного хана? – говоривший был явно не бедный человек, одет в добротный халат и подпоясан новым цветастым шёлковым платком. Лицо его было круглым и красным, редкая бородка едва закрывала пунцовые щёки, и оставляла открытыми мягкие, неряшливо шлёпающие губы.
– Что думаю, милейший Карим-джан? Думаю, что если чиновники выполнят всё, что написано в указе, то я наконец-то смогу женить своего младшего сына и взять хорошее приданое. Но они-то нашему хану, да благословит его Аллах, глаза опять замажут своими россказнями о том, что ремесленники налоги не платят и мор напал на всех купцов. Тогда всё останется по-старому. – Пожилой купец угрюмо разводил руками, стараясь не упустить взглядом проходивших мимо людей. А вдруг кто-то зайдёт в лавку и начнёт прицениваться к его товару – недорогим пёстрым тканям. Жизнь оставила на нём явные отпечатки своего присутствия в виде глубоких морщин, прорезающих старое лицо в разных направлениях.
– Нет, не будет этого, – возразил третий участник разговора, одетый беднее, но выглядевший моложе. Несмотря на молодость, более недоверчивый. – Всё это враки, не верю я этому указу! Вот уви дите, завтра другой выйдет, который отменит сегодняшний, и плакала ваша свадьба, дорогой Юсуф-ака.
Купец Юсуф при этих словах невольно втянул голову в плечи и постарался сделать вид, что он в опасном разговоре не участвует, никакого отношения к нему не имеет. И его интересуют одни покупатели и люди, проходящие туда-сюда мимо его лавки. Торговец Карим тоже постарался сделать вид, что занят покупателем. Упитанный мужчина в справном халате по неосторожности остановился около его дукана. Купец вцепился в рукав прохожего, словно готов был оторвать:
– Милейший, вы только посмотрите, какие великолепные ткани для вашей любимой жены! Я продаю их почти даром, ничего не оставляя себе! Только из уважения к вам и вашему присутствию на базаре я вам отдам их по два фельса за одно кари! Если у вас нет жены, то это подойдёт для вашей дочери… – Он так быстро и громко говорил, что растерявшийся прохожий сделал шаг в сторону лавки.
Всё, бухарец оттуда не вырвется до тех пор, пока чего-нибудь не купит!
На выходе из крытого рынка, невдалеке от дверей, запирающихся на ночь, сидели на корточках несколько дехкан. Видимо, приехали из соседнего с Бухарой кишлака продать свой немудрящий товар. К этому времени в бухарских садах созревают хурма и поздние сорта яблок. Халаты на дехканах потёртые, в дырах, ветхие, вместо поясных платков – верёвки. Босые ноги в дорожной пыли и грязи, пятки такие, как будто они год своих ног не мыли. Разговаривают настолько тихо, что непонятно, слышат ли сами себя? Приостановившись и делая вид, что разглядываю знакомых в толпе, кое-что я всё-таки разобрал:
– Братья, неспроста всё это. Вот увидите, будет опять война, опять будут собирать двойной налог и опять по нашим спинам пойдут гулять плети сборщиков недоимок. Это хорошо, если нашего хана не победят, а то ворвутся в город и в наш кишлак кочевники – и прощай жизнь. Я уже не говорю про честь жены и дочерей. Не верю я хану, ничего он о нашей жизни не знает. Знал бы – давно сделал налог меньше. – Дехканин огляделся, примолк.
– Ты прав, Юсуф, прав, как всегда, – мотнул сивой бородой худой бедняк, сидящий рядом.
– Мне урожая даже до зимы не хватает, я уже не говорю про вес ну. У меня два взрослых сына, и я не могу их женить. Внуков в доме нет, откуда народ прибавится? Была дочка… Какой-то бек увёз, ни про калым, ни про свадебный той разговора не было. Не знаю, жива или давно на том свете. И кочевники для её унижения не понадобились. – Дехканин вытер глаза рукой. Ладонь его, землистая и заскорузлая, с обломанными ногтями, мозолистая от тяжёлой работы, привыкшая к чёрному труду, размазала скупые слёзы.
Сидевшие рядом дехкане кивали. Их лица были почти равнодушны, но где-то в глубине их глаз, то ли теплилась надежда на лучшую долю, то ли им уже было настолько всё равно, что будет дальше. Мне стало страшно от этого всепоглощающего безразличия. Я поднял глаза на Зульфикара. В подобных случаях я стараюсь ни во что не вмешиваться – всех не накормишь, всем не подашь на жизнь, всех не облагодетельствуешь. Люди сами должны выбираться из тяжёлых обстоятельств. Подашь одному, а десяток людей, стоящих рядом, могут быть в худшем положении. У кого-то ребёнок умирает от недоедания, у другого лошадь пала от бескормицы, у третьего сын погиб на войне. Перечислять всех сил не хватит.
Мужские слёзы я тоже видел, ими меня не удивить. Но эти слёзы были не напоказ, они что-то сделали со мной, а что – я не понял. В груди что-то шевельнулось. Неужели жалость к этому оборванному, битому жизнью и судьбой скуластому, тощему дехканину? Он негромко вздыхал, как бы про себя, понуро шмыгал носом и продолжал бессмысленно кивать. Толпы людей обходили эту оборванную кучку кормильцев, стараясь не задеть их полами нарядных или просто чистых халатов. Кто-то смеялся, кто-то не замечал их, как мы не замечаем пыль под ногами. И от этой бесчувственности окружающих мне стало ещё хуже. Моя совесть, так некстати проснувшаяся сегодня утром и терзавшая меня на протяжении всего дня, резко пнула ногой в душу.
Зульфикар уже стоял возле своих воинов. Они молча слушали своего наиба, и ни один мускул на их лицах не дрогнул. И вот он уже рядом со мной.
– Ахмад-Касым ждать будет, а вот солнце мне не остановить. Стемнеет, и мы с тобой ничего не увидим, а смотреть при свете горна на оружие не годиться. – Как всегда, ни одного лишнего слова, лишь самое необходимое. Но я всё-таки вопросительно посмотрел на него.
– За дехканина не беспокойся, от богатства не умрёт, а сыновей женит. Если умным будет. И дочку найдём.
Совесть свернулась в мягкий клубок и задремала. Улицы Бухары узки и грязны. То тут, то там отбросы, непотребный мусор, колдобины и вездесущая пыль, несмотря на дождливую осень. Когда передвигаешься верхом, то всего этого не замечаешь, а когда ходишь пешком, как все, то поневоле смотришь под ноги, чтобы не угодить в кучу дерьма или некстати разлившуюся лужу чего-то донельзя вонючего.
– Зульфикар, а почему в нашей благословенной Бухаре так грязно, улицы неприбраны, дороги, если это можно так назвать, в рытвинах и колдобинах, – вытаскивая ноги из очередной ямины, спросил я.
– А ты это только заметил, великий хан? Улицы такие, какие были вчера, и луну назад, и даже такие, как в прошлом году. Для того чтобы сделать улицы гладкими и чистыми, нужен или новый налог, или новая повинность – дорожная. Хакиму города не до красоты, ему бы с каракчи справиться да себя не забыть.
– Но неужели нельзя хотя бы перед своими воротами подмести и засыпать колдобину? Или самому хозяину не противно, когда перед калиткой куча навоза лежит и смердит ему в нос? Что, у них и во дворе такая же грязь? – Я возмущался не потому, что впервые это всё увидел, а потому, что по этим улицам к базару от караван-сарая ходят купцы и погонщики, которые непременно разнесут всё это по караванным дорогам и приукрасят стократно. Сказал же Энтони Дженкинсон, английский купец, что Бухара похожа на кучу земли. Хорошо, хоть не дерьма!
– Это ты славно придумал, великий хан. Пусть по утрам все подметают улицу от своих ворот до ворот соседа. Было такое раньше, но потом забылось, а люди привыкли и к навозу, и к нечистотам. А около чьих ворот будет мусор – один медный фельс штрафа, глядишь, чисто будет и казне прибыток. Правда, это дорого, но чем строже наказание, тем тщательнее выполняется предписание. Про дворы ты зря напраслину возводишь, во дворах у всех чисто.
– Не может быть! Давай заглянем к кому-нибудь?
Но Зульфикар лишь покачал головой и продолжил:
– Люди боятся показать свой достаток, потому что тут же выскочит какой-то сборщик налогов и начнёт считать. Вот тогда ремесленнику край придёт. А следить за всем должен аксакал махалли. – Зульфикар довольно заулыбался, наверное, ему тоже до смерти надоела эта грязь. – Мухтасиб без дела сидит, пусть соберёт всех аксакалов Бухары и занимается делом, а то жиром заплыл…
– Вот-вот, нравственные каноны государства и чистота в городе это как раз для него. Не знаю, заплыл он жиром или нет, а то, что разленился, это точно. В диване только свою крашеную бороду руками гладит да глаза к потолку закатывает. Надо спросить у него, сколько человек ему помогают по утрам умываться. – Удивительно, что во мне проснулось любопытство. Этому я был несказанно рад, больше луны я ни на что не обращал внимания.