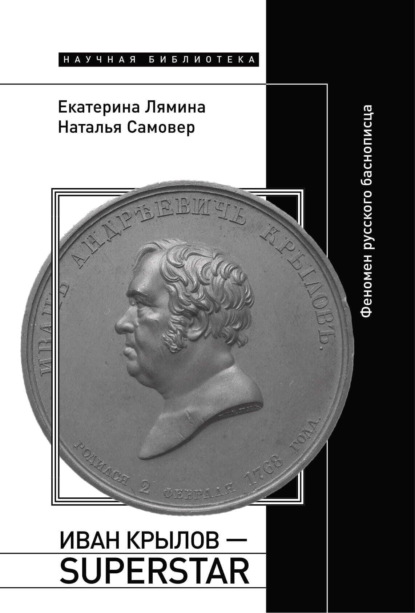По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иван Крылов – Superstar. Феномен русского баснописца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вместе с тем придуманное Вяземским словосочетание было нехарактерно для простонародной традиции именования старших, где обычно использовалось личное имя, отчество или прозвище: «дедушка Егор», «дед Илья», «дедушка Трофимыч» (ср. более позднее «дед(ушка) Мазай»). В выражении «дедушка Крылов» одновременно подчеркнута и принадлежность поэта к высокой культуре, и его «русскость». Это было безошибочное попадание в художественный нерв официальной народности. В результате новое имя баснописца, возникшее, казалось бы, случайно, ad hoc, получило огромный резонанс и немедленно «завирусилось»[539 - Свою роль в распространении этого прозвища сыграло клише, связанное с референтной Крылову литературной фигурой, – le bonhomme La Fontaine («старина/добряк Лафонтен»). В обоих случаях части прозвища срослись в практически неразрывное целое (ср. время от времени встречающееся написание «дедушка-Крылов», которое возникло еще при жизни баснописца, – например, в рецензии В. С. Межевича на возобновленную «Модную лавку», см.: Репертуар и пантеон. Театральное обозрение. 1844. Т. 6. Кн. 6. Отд. «Театральная летопись». С. 130–131).].
Для осмысления литературного юбилея Вяземский предсказуемо прибегает к метафоре золотой свадьбы[540 - В 1825 году Булгарин в заметке, посвященной двум юбилеям – Гёте и И. Ф. Блуменбаха – пишет, что оба они праздновали «так называемую в Германии золотую свадьбу ученой славы» (СПч. 1825. № 144 (1 декабря). Л. 1). Ср. мотив соединения браком врача и медицины в стихотворении на юбилее Лодера 1827 года, где Вяземский, с высокой вероятностью, был в числе гостей.] – пятидесятилетнего союза поэта и музы. Моделью для поздравления, по-видимому, послужил гросфатер (от Grossvater, «дедушка») – широко известная немецкая песенка, под которую традиционно танцевали на свадьбах и прочих домашних торжествах. В оригинале дедушка и бабушка с умилением взирают на юных внуков – продолжателей рода; эту идиллическую картинку Вяземский проецирует на литературное сообщество. Вечно раздираемое враждой (которой не чуждался и автор куплетов), оно под его пером превращается в единую семью, чествующую своего патриарха, а литераторы и любители словесности оказываются друг другу «сватьями»[541 - «На этой свадьбе все мы сватья» (из куплетов Вяземского). См. в Словаре В. И. Даля: «Родители молодых и их родственники друг друга взаимно зовут „сватами“, „сватьями“».].
Нарекая Крылова «дедушкой» от имени участников праздника, а затем расширяя понятие «мы» до всех носителей русского языка и утверждая, что вслед за современниками и внуки «затвердят» его басни, Вяземский достраивает этот образ до архетипической полновесности. Таким образом он выводит его далеко за пределы литературы, где «дедушка» – всего лишь традиционная маска умудренного опытом рассказчика или наставника[542 - См., например, переводы Жуковского из Гебеля («Овсяный кисель», «Тленность» – 1816), идиллию Ф. Н. Глинки «Гроза» (не позднее 1826), «Разговоры старца с юною девицею» А. С. Шишкова (1835). Дедушка-рассказчик фигурирует и в первом издании «Сказок дедушки Иринея» В. Ф. Одоевского (1838), но не в текстах, а только в названии (сборник вышел после крыловского юбилея; цензурное разрешение 18 ноября 1838 года). По басням Крылова и вовсе нельзя судить о возрасте рассказчика – ясно только, что это человек, обладающий жизненным опытом.], в пространство метафизики национального. И никого уже не удивляет переадресация маститому поэту триумфального имперского гимна, ведь именно в единстве патриархальной семейственности и военной доблести виделась сила государства.
В конструкте «дедушка Крылов» акцентирована функция пращура как хранителя принципов и устоев рода, исходной и в то же время замыкающей фигуры традиционного социума. Образ «дедушки» в такой интерпретации придавал завершенность свойственной николаевскому времени концепции самодержавия, которая строилась по модели «государь – отец, подданные – дети». «Дедушка Крылов» возник вследствие уже упомянутого процесса огосударствления реальной личности баснописца, то есть обретения культурой николаевской эпохи вещественного символа искомой народности, понимаемой как укорененность в толще времен[543 - Автор единственной специальной работы о юбилейных куплетах рассматривает их исключительно в свете литературных отношений и литературного быта, не касаясь идеологической составляющей (см.: Ивинский Д. П. Из комментария к стихам кн. П. А. Вяземского на юбилей И. А. Крылова // Литературоведческий журнал. № 46. 2019. С. 130–147).].
Впрочем, все это так и осталось бы сухим, мертворожденным конструктом, если бы не спасительная ирония, вложенная Вяземским в новый «титул» баснописца. Здесь пригодилось арзамасское умение вышучивать все напыщенное. Не удивительно, что придуманное им прозвище немедленно вернулось к нему самому. Уже 23 февраля его московский приятель Булгаков начинает письмо к нему с приветствия: «Здравствуй, дедушка Вяземский!», а себя именует «молодым, ветреным дедушкой Булгаковым»[544 - РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 1503. Л. 9.]. Булгакову в тот момент шел пятьдесят седьмой год, его адресату – сорок шестой, у обоих действительно уже были внучки, но наименование друг друга «дедушками» на некоторое время стало своего рода паролем для этого содружества немолодых мужчин. Так, в 1840?м А. И. Тургенев писал тому же Булгакову, что ездил в Царское Село «с дедушками Крыловым и Вяземским»[545 - КВС. С. 311 (письмо от 26 июня 1840 года).].
Но самый неожиданный отзвук юбилейных куплетов прозвучит десять лет спустя. М. И. Калинин, бывший учитель из Пермской губернии, ввел в свой очерк об этом крае сцену, произошедшую, по его утверждению, когда он, недавний петербургский студент, ехал к месту своей службы. Это было вскоре после крыловского юбилея. В сорока верстах от Чердыни он знакомится со стариком, бывшим ямщиком, который, пока не ослеп, увлекался чтением и особенно полюбил Крылова. «Почти все басни затвердив наизусть», он не раз горячо спорил с чердынским священником, смевшим утверждать, что творчество русского баснописца «подражательно». Своего собеседника молодой человек почтительно именует дедушкой и, видя его любовь к Крылову, рассказывает ему о юбилейном празднике. Услышав стихи Вяземского, пишет Калинин, «поклонник Крылова зарыдал от умиления и раз пять повторил с особенною энергиею: здравствуй, дедушка Крылов!..»[546 - Калинин М. Чердынь. Статья первая // Иллюстрация. 1848. № 10 (13 марта). С. 156. М. И. Калинин – в 1839–1842 годах учитель русского языка в Чердынском уездном училище.]
Трудно судить о достоверности этой сцены, но образ грамотного простолюдина, несомненно, придает колорит очерку, посвященному описанию столь глухого, поистине медвежьего угла. Имя Крылова здесь выступает едва ли не шиболетом, паролем между сословиями. Учителю и ямщику оно позволяет найти общий язык и тему для беседы, а «дедушка», рыдая над стихами о «дедушке», отчасти проецирует на себя славу великого баснописца.
9
Молчание юбиляра. – Скандальные обертоны праздника. – Нервозность Уварова. – Недовольство друзей vs. ликование Вязем?ского
Многое в церемониале сближало крыловское торжество с праздниками в честь заслуженных врачей, а великолепия и официального почета там было гораздо больше, однако в глаза бросается важное отличие – Крылов в основном молчал. Потом он в свойственной ему иронической манере жаловался, что не смог как следует поесть, потому что «все время кланяться и благодарить приходилось»[547 - КВС. С. 277.]. Действительно, баснописец приветливо кивал «на все стороны» при исполнении куплетов, улыбался дамам[548 - Звездочка. С. 58–59. М. Ф. Львова писала в упомянутом выше стихотворении: «Теперь его златая лира / Молчит в шуму людских страстей. <…> / Она как будто отдыхает, / Застенчиво хвалам внимает, / Улыбкой платит им порой, / Приятным взором награждает, / И только шуткою одной / Благодарит – и отвечает» (ОР РНБ. Ф. 542. № 914. Л. 6 об.)], прослезился, слушая обращенные к нему спичи и дифирамбы, но никакой ответной речи так и не произнес[549 - Ср. ответное слово Рюля: «…выражение его благодарности было сильно: казалось, что почтенный старец хотел вдруг высказать все, что чувствовало благородное его сердце. Нельзя забыть, чем он кончил свою речь. „Желаю, – сказал он, – чтобы Всевышний судил каждому из любезных моих товарищей дождаться подобной радости на вечере жизни“» (цит. по: А. Н. [Никитин А. Н.] Письмо к приятелю в деревню о праздновании пятидесятилетнего юбилея г-на тайного советника лейб-медика И. Ф. Рюля. С. 664).].
Крылов присутствовал на празднике Загорского и наблюдал чествование Брюллова в Академии художеств, то есть имел представление о том, как проходят подобные торжества. Однако появление утром 2 февраля письма от Греча должно было его насторожить. Поздравляя баснописца, Греч извинялся, что в связи с «расстройством здоровья, причиненным жестоким огорчением», не сможет присутствовать «на обеде, который дают вам ваши благодарные читатели»[550 - Сб. 1869. С. 309.].
Тревога поэта еще усилилась после визита Булгарина, который приехал сообщить, что организаторы юбилея оскорбили Греча, отняв у него идею, и потому оба они, не желая терпеть унижение, вынуждены отказаться от участия[551 - [Греч Н. И.] Почему Греч и Булгарин не были… С. 202.]. Осознание того, что через несколько часов ему предстоит стать центром весьма необычного культурного события с заведомо скандальным оттенком, Крылова отнюдь не обрадовало. Плетневу запомнились его слова, произнесенные при отбытии на праздник:
Знаете что <…> я не умею сказать, как благодарен за все моим друзьям, и, конечно, мне еще веселее их быть сегодня вместе с ними, боюсь только, не придумали бы вы чего лишнего: ведь я то же, что иной моряк, с которым оттого только и беды не случалось, что он не хаживал далеко в море[552 - КВС. С. 225.].
Опасения подтвердились, едва он вошел в обеденную залу. Собрание практически всех государственных сановников уподобило происходящее придворной церемонии, центром которой мог быть только государь; лавровый венок дополнительно придал всему действу сходство с коронацией. Столь явное насыщение литературного юбилея политической образностью поставило виновника торжества в затруднительное положение и, в сущности, лишило его возможности говорить. Перед подобным собранием он не мог бы произнести благодарственную речь, адресованную коллегам по цеху, как делали на своих юбилеях врачи. Еще менее уместным было бы его обращение к министрам и членам Государственного совета, не говоря уже о нации в целом, хотя в речах на обеде многие говорили о национальном значении юбилея баснописца. В такой ситуации Крылову оставалось только молчать.
В этом ярко выразилось отчуждение самого юбиляра от праздника, устроенного в его честь. Сидя напротив своего мраморного бюста, словно напротив прижизненного памятника, «он перенесся заживо в потомство и видел предназначенное ему место в веках»[553 - Булгарин. Взгляд. № 9. С. 35.]. На собственном юбилее живой Крылов, пожалуй, играл роль не большую, чем этот бюст[554 - О смерти в парадоксальной связке с его высшим торжеством говорил и сам Крылов. Если верить воспоминаниям Булгарина, на следующий день после юбилея он имел разговор с баснописцем, и тот заметил: «Не думал и не гадал я, когда написал первые мои басни, чтоб они повели меня так высоко!.. Если это слава… то, воля твоя… а она очень приятна… Никогда не испытывал я подобного чувства, как вчера… Мне даже хотелось умереть…» (Там же).]. Он и его творчество оказались лишь поводом для «великолепного патриотического обеда»[555 - РИ. 1838. № 31 (4 февраля). С. 122.], истинный смысл которого состоял в постулировании единства между властью и словесностью. «В лице Крылова государь наградил всю русскую литературу», – этот вывод, сделанный через несколько дней «Северной пчелой»[556 - СПч. 1838. № 32 (8 февраля). С. 125.], очевидно, и следует считать наилучшим резюме юбилея.
Воспоминания подавляющего большинства современников рисуют вполне благостную картину праздника. Однако он завершился эксцессом, который свидетельствовал о создавшемся в ходе подготовки огромном напряжении.
Когда встали из?за стола, подвыпивший действительный статский советник Карлгоф подошел к сотруднику нашему Полевому и сказал ему: «Явился, подлец, когда приказали». Полевой, бесчиновный литератор, проглотил обиду, не сказав ни слова[557 - Греч Н. И. Юбилей Крылова. С. 627.], —
такое описание происшествия оставил Греч, узнавший о нем, скорее всего, от самого Полевого. Оскорбление редактора «Северной пчелы» он, несомненно, принял и на свой счет. Брат Полевого Ксенофонт в своих воспоминаниях утверждал, что Карлгоф пытался даже броситься на своего врага, но его удержали другие участники праздника[558 - Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб., 1888. С. 414.].
Для Карлгофа это был особенный день: заботливая жена записала, что он впервые надел фрак, то есть из военной службы перешел в статскую[559 - [Драшусова Е. А.] Жизнь прожить – не поле перейти. Записки неизвестной // РВ. 1881. № 10. С. 728.]. Участие в подготовке юбилея стало его дебютом как чиновника по особым поручениям. В организационном комитете он как лицо, приближенное к министру, скорее всего, играл роль личного представителя Уварова и более детально, чем его сочлены, был осведомлен о перипетиях борьбы вокруг праздника.
Смена места службы заставила Карлгофа пересмотреть и некоторые личные отношения. Еще недавно он дружески принимал Полевого, но теперь приязнь сменилась враждебностью – ведь именно так относился к журналисту Уваров, его новый патрон. Для него Полевой был неблагонадежным литератором, чья репутация не соответствовала высокому патриотическому настрою торжества, к тому же ближайшим сотрудником фрондеров Греча и Булгарина[560 - После закрытия в 1834 году «Московского телеграфа» Полевой подвергался преследованиям Уварова до тех пор, пока Греч и Булгарин не приютили его в Петербурге. Присоединившись к ним, он перешел под покровительство Бенкендорфа – сильного врага своего гонителя. Об этих коллизиях см.: Велижев М. Чаадаевское дело: Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России. С. 353, 355.]. Присутствие Полевого на юбилейном обеде не могло не напомнить Карлгофу и о том, как зарождался и как был украден его замысел.
Но едва ли не больше всех в тот день волновался Уваров. Вернувшись домой, он немедленно составил всеподданнейшее донесение с кратким отчетом о юбилейном обеде. В его изображении все прошло в высшей степени благопристойно:
Праздник, данный в честь Крылову, имел полный успех. Когда по прибытии моем я от имени Вашего Императорского Величества вручил ему грамоту и орденские знаки, то почтенный старец по прочтении оной был тронут до слез, и все присутствующие разделили его восторг. За обедом, в коем участвовали 205 человек, замысловатые куплеты князя Вяземского, при сем подносимые, сопровождаемые прелестною музыкою графа Виельгорского, произвели общее восхищение. Тосты были питы в надлежащем порядке и с приличными приветствиями. Наконец, что более всего заслуживает внимания, это многочисленное разнородное общество не выступило ни на шаг из границ благовоспитанного порядка и, невзирая на то, что каждый из участвующих был подписчиком наравне с другими, замечательны были уважение к старшим и вместе с порывами необыкновенного энтузиазма общее до конца благоустройство.
О сих обстоятельствах считаю должным довести всеподданнейше до сведения Вашего Величества.
Сергей Уваров[561 - РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. № 6202. Л. 1 – 1 об. В подтверждение своих слов министр приложил к записке печатный экземпляр куплетов и список тостов; на записке канцелярская помета: «Государь император изволил рассматривать в Санкт-Петербурге 3 февраля 1838 года».].
Нервозность министра весьма выразительна – не только в свете его конфликта с Бенкендорфом, но и, не в меньшей степени, при сопоставлении с европейским, в особенности французским контекстом. Уварову, несомненно, была памятна «банкетная кампания» в честь оппозиционных депутатов, предшествовавшая Июльской революции. А ко второй половине 1830?х годов политические банкеты во Франции окончательно стали формой выражения левых взглядов, иногда весьма радикальных, и надежным средством мобилизации общественного мнения[562 - О том, как это происходило, в том числе о значении тостов и практике их произнесения, подробно рассказано в монографии Венсана Робера «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)» (М., 2019; пер. с франц. В. А. Мильчиной).]. Хотя политическая культура николаевской России была, казалось бы, от этого предельно далека, Уваров видел в русских литераторах среду ненадежную, легко перенимающую опасные западные веяния. Неудивительно поэтому, что малейший намек на корпоративную солидарность и независимость оценок, пусть даже в чисто литературной сфере, воспринимался им как предвестник политической бури, подобной той, что во Франции привела к революции. С этим, по-видимому, и связаны его повторяющиеся с навязчивостью заклинаний уверения в ультралояльности прошедшего торжества.
Между тем оппозиция крыловскому празднику все-таки существовала. В ближайшем дружеском кругу баснописца на официозный юбилей, организованный наспех, с вымышленным семидесятилетием и яростной подковерной борьбой, отреагировали грустной иронией. Свидетельство тому – процитированный в качестве эпиграфа к этой главе юмористический адрес, копия которого сохранилась среди бумаг Олениных[563 - См.: ОР РНБ. Ф. 542. № 509. Адрес впервые был напечатан В. Ф. Кеневичем по ныне утраченному оригиналу (Сб. 1869. С. 310–311). Отмечая, что это «письмо» написано женской рукой, исследователь констатировал, что авторство текста он определить не смог. «Одно только узнали мы наверное, что оно вышло не из семейства А. Н. Оленина», – писал он. О существовании копии в архиве Олениных ему, очевидно, не было известно.]. В нем Лев и Орел от имени других зверей и птиц – героев басен Крылова приветствуют своего создателя, «узнав, что ныне другими животными (то есть людьми) празднуется в 69?й раз» день его рождения. Вскользь заметив таким образом, что им, в отличие от организаторов юбилея, известен истинный возраст баснописца[564 - Судя по всему, члены комитета сознавали фиктивный характер «70-летия». Характерно, что Вяземский в 1845 году, работая над статьей о Крылове, будет задаваться вопросами: «Сколько ему было лет? Где родился?» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 658а. Л. 16). Версия о том, что Крылов родился в 1769 году, восходит к его близким. Она подтверждается челобитной матери и письмом брата Льва (Сб. 1869. С. 295, 336). Эта дата противоречит и официальным биографиям, и формулярным спискам, а значит, только сам Крылов мог сообщить ее своим ближайшим друзьям.], они обещают когда-нибудь устроить для него настоящий, веселый и непринужденный праздник, не похожий на тот, что был дан людьми. Этот воображаемый юбилей должен обойтись
без кровопролития и, следственно, без обеда; но на сем празднике избранные умнейшие звери будут говорить с вами и между собою если и не такими стихами, как ваши, то по крайней мере хорошими <…> между тем, на хорах из ветвей соловьи в свою очередь будут воспевать своего любимого певца, а ослов (и это всего труднее) мы заставим молчать.
Наиболее вероятно (вопреки мнению В. Ф. Кеневича, публикатора этого текста), что авторами адреса все-таки были члены семьи Оленина и его домочадцы. Он отсылает, с одной стороны, к реалиям празднества 2 февраля (зал с хо?рами, помпезный обед, «кровопролитие» как метафора резких стычек), с другой – к текстам Крылова и, видимо, к шуточному обиходу этого круга, где, в частности, было принято отмечать день рождения хозяйки театрализованными забавами. Оленин, на которого Уваров возложил обязанности председателя организационного комитета, исполнил все, что от него требовалось, но характерно, что, открывая торжество в Дворянском собрании, он промолчал о пресловутом 70-летии со дня рождения и упомянул только о 50-летии литературной деятельности Крылова. Весьма скептически оценили «звери» и стихи, звучавшие на юбилее. В литературных кругах, и уж тем более в доме Оленина не забыли, как в свое время Вяземский ставил Крылова-баснописца ниже своего кумира Дмитриева; недаром и пятнадцать лет спустя злые языки применяли к этой коллизии крыловскую басню «Осел и Соловей», отождествляя Вяземского с Ослом[565 - Прямой реакцией на статью «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» считается басня «Прихожанин» (1823), тогда как басня «Осел и Соловей», напечатанная еще в 1811 году, к Вяземскому отношения не имеет (см.: Сб. 1869. С. 78). Однако она так прочно ассоциировалась с Вяземским, что в 1837 году была пересказана в посвященной Крылову главке книги Генриха Кёнига Literarische Bilder aus Russland (Stuttgart, 1837. S. 88) с указанием на Дмитриева и «одного преданного сему последнему критика».].
Сам же князь был чрезвычайно доволен и вдохновлен успехом праздника. На следующий день в письме к Булгакову он разливался бу?квально соловьем:
Крыловское празднество нам очень хорошо удалось материально и спиритуально в обоих смыслах вина и ума. Все остались сыты и довольны, а Крылов по уши сыт. Перед обедом Уваров привез ему второго Станислава и весьма лестный рескрипт. Более двухсот человек сидело за столом: вся почетная литература и чиновность: граф Новосильцев, Канкрин, Чернышев, Бенкендорф + + + Мои куплеты и музыка Вьельгорского очень понравились; их три раза повторили и пили за здоровье автора и композитора. В довершение празднества и торжества Греч и Булгарин отказались участвовать, признаваясь таким образом, что между порядочными людьми им не место[566 - РГАЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 32. Л. 152 – 152 об. К письму были приложены тексты речей и куплетов с просьбой показать все это Баратынскому. Тот, со своей стороны, живо интересовался юбилеем и просил своего приятеля и родственника Н. В. Путяту: «Пришлите мне куплеты Вяземского, петые на празднике, данном Крылову» (Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 344).].
10
Освещение в прессе. – Демарш Греча. – Травля
Юбилей Крылова получил невиданно широкое отражение в печати. Отчеты о нем помести?ли все ведущие русские газеты, выходившие в столице: «Русский инвалид» (4 и 5 февраля. № 31 и 32) и еженедельные «Литературные прибавления» к нему (5 февраля. № 6), «Санкт-Петербургские ведомости» (5 февраля. № 29), «Северная пчела» (8 февраля. № 32)[567 - Отчет, представлявший собой перелицовку материала «Санкт-Петербургских ведомостей», напечатали также «Московские ведомости», снабдив его заголовком «Праздник русской словесности» (1838. № 13 (12 февраля). С. 103–104).]. Крохотную заметку напечатала «Художественная газета» Кукольника, посулив читателям в скором будущем «особую статью об этом важном празднестве» с приложением гравюры с некоего нового портрета Крылова, нарисованного карандашом с натуры «одним из отличнейших наших художников» (№ 3 за 15 февраля, цензурное разрешение от 23 февраля [sic!]). Спустя некоторое время к ним присоединились журналы: «Сын Отечества и Северный архив» (1838. Т. 2. № 3; цензурное разрешение от 15 марта), «Современник» (1838. Т. 9. цензурное разрешение от 29 марта, статья П. А. Плетнева) и «Журнал Министерства народного просвещения» (1838. Ч. 17. № 2; статья Б. М. Федорова).
На освещение этого события было обращено особое внимание Уварова: все материалы просматривались им лично[568 - Факсимиле соответствующего предписания для цензоров от 3 февраля 1838 года см.: Иван Андреевич Крылов в портретах, иллюстрациях, документах / Сост. А. М. Гордин. М.; Л., 1966. С. 146. Собственноручная правка министра и его помета «Печатать. Уваров» имеются на автографе статьи А. А. Краевского «Пятидесятилетний юбилей И. А. Крылова» (ОР РНБ. Ф. 391. № 904. Л. 1–2). Статья вышла в «Литературных прибавлениях…» (1838. № 6 (5 февраля). С. 118; без подписи).]. Заботясь о создании максимально благоприятной картины курируемого им юбилея, он вместе с тем счел необходимым воспользоваться возможностями своего положения и свести кое-какие счеты.
Напомним, что Греч пытался организовать праздник в обход Уварова, чем спровоцировал обострение его отношений с Бенкендорфом. Со своей стороны, исключив Греча из списка организаторов, Уваров, видимо, ожидал, что тот просто смирится. Тем сильнее вывело его из себя поведение журналиста в последние дни перед празднеством.
29 января Греч получил от Жуковского письмо с поручением пригласить на «литтературный пир» знакомых ему писателей[569 - Текст письма см.: Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 113–114. Из тона письма следует, что Жуковский не знал о том, что инициатива юбилея в действительности принадлежала Гречу.] – очевидно, сотрудников «Северной пчелы» и «Сына Отечества». К этому прилагались подписной лист и тридцать билетов. На Греча, таким образом, возлагалась немалая ответственность – обеспечить присутствие на празднике примерно десятой части гостей. «Это меня взбесило, – вспоминал позднее Греч. – Устранили учредителей юбилея от участия в нем и еще дразнят»[570 - Греч Н. И. Юбилей Крылова. С. 625.]. Неудивительно, что в тот же день он ответил Жуковскому подчеркнуто вежливым, но явно недружелюбным письмом:
Милостивый государь
Василий Андреевич!
Ваше Превосходительство почтили меня письмом от нынешнего числа с приложением подписного листа на обед, который дают И. А. Крылову, и 30 билетов. Не имея случая раздать сии билеты и находясь в невозможности, к крайнему моему сожалению, участвовать в сем празднестве, принимаю смелость препроводить к Вам обратно и лист, и билеты, с выражением искреннего почтения и совершенной преданности, с коими имею честь пребыть
Милостивый государь
Вашего превосходительства
всепокорнейшим слугою
Н. Греч[571 - ОР РНБ. Ф. 539. № 1595 (копия – об обстоятельствах ее появления см. ниже).].
Вернув все билеты, Греч тем самым дал понять, что и он сам, и Булгарин отказываются принимать участие в празднике. Разумеется, это не был выпад в адрес Крылова; оскорбленные журналисты метили в Уварова, похитившего их идею.
В его руках бывшая общественная инициатива неизбежно приобрела официозный характер. Речь уже не шла о единодушии литературной корпорации, чествующей своего патриарха. Теперь торжество было призвано являть сплоченность другого рода – в лояльности прежде всего самому министру. Присутствие на празднике всех без исключения «словесников» демонстрировало бы эту управляемую квазикорпоративность, но демарш самых известных столичных журналистов угрожал столь эффектному замыслу.
Высокие ставки игры – на предстоящее событие было обращено внимание самого государя – вынудили Уварова скрепя сердце обратиться к Бенкендорфу с просьбой найти управу на смутьянов. Но даже категорическое требование шефа жандармов, переданное Гречу и Булгарину через Дубельта[572 - Встречающиеся в исследовательской литературе утверждения о том, что Николай I лично требовал присутствия всех литераторов на крыловском обеде, основываются на записке Греча, в которой говорилось: «Накануне празднества Булгарин вызвал Греча из Михайловского театра и объявил ему о сообщении воли государевой [зачеркнуто: объявил ему, что генерал Дубельт приезжал к нему и объявил волю государя], чтобы все литераторы участвовали в завтрашнем празднике» ([Греч Н. И.] Почему Греч и Булгарин не были… С. 202). Следует иметь в виду, что записка носит оправдательный характер и Греч в ней склонен преувеличивать давление, которому подвергался.], не смогло ничего изменить. В итоге оба все-таки отсутствовали на празднике, и это, разумеется, не осталось незамеченным.
Анализ публикаций, связанных с юбилеем, свидетельствует об исключительном положении, предоставленном газете Воейкова «Русский инвалид». Она первой поместила отчет о торжестве. Были в полном объеме перепечатаны все речи и стихотворения, прозвучавшие на празднике (то есть все, что входило в брошюру «Приветствия, говоренные…», вплоть до перечня музыкальных пьес), и еще несколько материалов: пространная «Запоздалая речь Русских Инвалидов И. А. Крылову», сочиненная Скобелевым (под псевдонимом «Русский Инвалид», с датой «3 февраля 1838 г.»), поздравительные стихи Р. М. Зотова «Нашему поэту-ветерану Ивану Андреевичу Крылову. При праздновании 50-тилетия его славы» и заметка сотрудника Публичной библиотеки И. П. Быстрова об истории басни «Волк на псарне»[573 - РИ. 5 февраля. № 32 (1838). С. 127–128. Стихи Зотова были приведены в газете по отдельному изданию-листку, изящно отпечатанному в типографии Смирдина. Оно получило цензурное разрешение в день праздника, и, по-видимому, раздавалось гостям на обеде. Такой листок приплетен к брошюрам «Приветствия, говоренные…» из собрания РНБ и из библиотеки Жуковского, хранящейся в Томском университете.]. Еженедельным «Литературным прибавлениям к „Русскому инвалиду“» досталось право перепечатки стихотворений Вяземского и Бенедиктова и публикации «Лаврового листка» Гребенки – но не текстов приветственных речей. Попытка издателя «Прибавлений…» А. А. Краевского воспроизвести их в составе своего отчета натолкнулась на прямой запрет Уварова[574 - Беловая рукопись отчета заканчивается словами о приводимых ниже «речах и стихах, сочиненных для сего незабвенного праздника». Эта концовка была вычеркнута Уваровым (см. ОР РНБ. Ф. 391. № 904. Л. 2). В ходе цензурования этого материала у Жуковского по какой-то причине сложилось впечатление, что в его приветствие Крылову были внесены изменения, и он пришел в негодование. Одоевский «под диктовкой» поэта писал Краевскому: «Если есть <…> хоть малейшая перемена, то он требует, чтобы речь его отнюдь не была напечатана». Краевский отвечал: «Министр не позволил печатать ни одного приветствия. Я перепечатываю только стихи, помещенные в нынешнем [от 4 февраля] нумере „Инвалида“. <…> Это я узнал сейчас только от Никитенка, которому С. С. Уваров переслал нашу статью» (ОР РНБ. Ф. 539. Оп. 2. № 641. Л. 40, 39 об.). Выражение «наша статья» позволяет предположить, что отчет для «Литературных прибавлений» был коллективным произведением.].
Статья о юбилее, написанная Гречем[575 - [Греч Н. И.] Почему Греч и Булгарин не были… С. 203.] со слов кого-то из присутствовавших (скорее всего, Полевого), смогла увидеть свет в «Северной пчеле» лишь на шестой день после праздника – 8 февраля. К ней прилагались стихи Вяземского, но ни речей, ни других приветствий, ни иных дополнительных материалов, за исключением рескрипта, газета не поместила. Нехарактерные для «Пчелы» медлительность и скудость в освещении столь важного события, по-видимому, объяснялись тем, что министр-цензор намеренно задерживал ее материалы.
Более того, Уваров способствовал возникновению публичного скандала. Просматривая статью Воейкова, предназначенную для «Русского инвалида», он не стал вычеркивать оттуда следующий пассаж: «Из известных писателей не участвовали в сем празднике Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч и О. И. Сеньковский [sic!]». Сенковский и в самом деле не был на обеде, но воспользовался этим один Воейков, его личный враг. Нарочитая полонизация фамилии здесь не случайна: этот выпад звучал как прямое обвинение в попытке создания литературной фронды, причем с прозрачным намеком на нерусское происхождение всех троих «отщепенцев»[576 - Красочный рассказ Панаева о том, как Воейков за свою «смелую выходку» был якобы на три дня помещен на гауптвахту (Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 114–115), не подтверждается другими источниками и, учитывая, что Воейков действовал с санкции Уварова, явно недостоверен. В нем, по-видимому, преломился реальный эпизод 1830 года, когда Воейков оказался на гауптвахте вместе с Булгариным и Гречем в наказание за участие в печатной полемике по поводу романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский».].
В освещении крыловского юбилея приняла участие и немецкоязычная St. Petersburgische Zeitung. Хотя газета, в которой сотрудничали петербургские немцы-литераторы, несомненно, имела возможность подготовить и поместить оригинальный материал об этом событии, она ограничилась практически дословным переводом отчета «Русского инвалида», включая ошибку в возрасте юбиляра (72 года) и выпад против троицы отсутствовавших[577 - St. Petersburgische Zeitung. 1838. № 29 (5/17. Februar). S. 124 (с указанием на источник: «Р. И.»). В № 31 (8/20 февраля) был помещен перевод рескрипта Крылову (S. 133). На этом фоне любопытна позиция, занятая официальной газетой Царства Польского, выходившей в Петербурге. Краткое сообщение о юбилейном празднике в честь Крылова появилось там 11 февраля (Tygodnik Petersburski. 1838. № 13 (11/23 lutego). S. 67). Оно представляло собой сокращенный пересказ того же материала из «Русского инвалида» (с повторением ошибочного указания на возраст баснописца – 72 года), но без финального упрека в адрес Булгарина, Греча и Сенковского. Учитывая, что двое из них были поляками, это выглядело как жест солидарности со стороны издателя газеты О. А. Пржецлавского.]. Напомним, что St. Petersburgische Zeitung, издаваемая Академией наук, находилась в орбите непосредственного влияния Уварова как ее президента.
Издатели «Пчелы» смогли ответить на обвинения только 8 февраля. В том же номере, где была опубликована статья о юбилее, появилась за подписью Греча следующая заметка:
В № 31?м «Русского инвалида», при описании торжества юбилея И. А. Крылова, имя товарища моего, Ф. В. Булгарина, и мое помещены в числе имен тех литераторов, которые не участвовали в торжестве. Это требует пояснения. Накануне торжества поручили мы А. Ф. Смирдину доставить нам билеты и отдали ему следующие за то деньги. На другой день г. Смирдин объявил нам, что все билеты уже розданы. Ф. В. Булгарин поехал к И. А. Крылову, чтоб объявить ему о том и поздравить его лично; я же, принужденный нездоровьем сидеть дома, исполнил этот приятный долг письменно. Мы участвовали в торжестве сердцем и душою[578 - СПч. 1838. № 32 (8 февраля). С. 127.].
Для осмысления литературного юбилея Вяземский предсказуемо прибегает к метафоре золотой свадьбы[540 - В 1825 году Булгарин в заметке, посвященной двум юбилеям – Гёте и И. Ф. Блуменбаха – пишет, что оба они праздновали «так называемую в Германии золотую свадьбу ученой славы» (СПч. 1825. № 144 (1 декабря). Л. 1). Ср. мотив соединения браком врача и медицины в стихотворении на юбилее Лодера 1827 года, где Вяземский, с высокой вероятностью, был в числе гостей.] – пятидесятилетнего союза поэта и музы. Моделью для поздравления, по-видимому, послужил гросфатер (от Grossvater, «дедушка») – широко известная немецкая песенка, под которую традиционно танцевали на свадьбах и прочих домашних торжествах. В оригинале дедушка и бабушка с умилением взирают на юных внуков – продолжателей рода; эту идиллическую картинку Вяземский проецирует на литературное сообщество. Вечно раздираемое враждой (которой не чуждался и автор куплетов), оно под его пером превращается в единую семью, чествующую своего патриарха, а литераторы и любители словесности оказываются друг другу «сватьями»[541 - «На этой свадьбе все мы сватья» (из куплетов Вяземского). См. в Словаре В. И. Даля: «Родители молодых и их родственники друг друга взаимно зовут „сватами“, „сватьями“».].
Нарекая Крылова «дедушкой» от имени участников праздника, а затем расширяя понятие «мы» до всех носителей русского языка и утверждая, что вслед за современниками и внуки «затвердят» его басни, Вяземский достраивает этот образ до архетипической полновесности. Таким образом он выводит его далеко за пределы литературы, где «дедушка» – всего лишь традиционная маска умудренного опытом рассказчика или наставника[542 - См., например, переводы Жуковского из Гебеля («Овсяный кисель», «Тленность» – 1816), идиллию Ф. Н. Глинки «Гроза» (не позднее 1826), «Разговоры старца с юною девицею» А. С. Шишкова (1835). Дедушка-рассказчик фигурирует и в первом издании «Сказок дедушки Иринея» В. Ф. Одоевского (1838), но не в текстах, а только в названии (сборник вышел после крыловского юбилея; цензурное разрешение 18 ноября 1838 года). По басням Крылова и вовсе нельзя судить о возрасте рассказчика – ясно только, что это человек, обладающий жизненным опытом.], в пространство метафизики национального. И никого уже не удивляет переадресация маститому поэту триумфального имперского гимна, ведь именно в единстве патриархальной семейственности и военной доблести виделась сила государства.
В конструкте «дедушка Крылов» акцентирована функция пращура как хранителя принципов и устоев рода, исходной и в то же время замыкающей фигуры традиционного социума. Образ «дедушки» в такой интерпретации придавал завершенность свойственной николаевскому времени концепции самодержавия, которая строилась по модели «государь – отец, подданные – дети». «Дедушка Крылов» возник вследствие уже упомянутого процесса огосударствления реальной личности баснописца, то есть обретения культурой николаевской эпохи вещественного символа искомой народности, понимаемой как укорененность в толще времен[543 - Автор единственной специальной работы о юбилейных куплетах рассматривает их исключительно в свете литературных отношений и литературного быта, не касаясь идеологической составляющей (см.: Ивинский Д. П. Из комментария к стихам кн. П. А. Вяземского на юбилей И. А. Крылова // Литературоведческий журнал. № 46. 2019. С. 130–147).].
Впрочем, все это так и осталось бы сухим, мертворожденным конструктом, если бы не спасительная ирония, вложенная Вяземским в новый «титул» баснописца. Здесь пригодилось арзамасское умение вышучивать все напыщенное. Не удивительно, что придуманное им прозвище немедленно вернулось к нему самому. Уже 23 февраля его московский приятель Булгаков начинает письмо к нему с приветствия: «Здравствуй, дедушка Вяземский!», а себя именует «молодым, ветреным дедушкой Булгаковым»[544 - РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 1503. Л. 9.]. Булгакову в тот момент шел пятьдесят седьмой год, его адресату – сорок шестой, у обоих действительно уже были внучки, но наименование друг друга «дедушками» на некоторое время стало своего рода паролем для этого содружества немолодых мужчин. Так, в 1840?м А. И. Тургенев писал тому же Булгакову, что ездил в Царское Село «с дедушками Крыловым и Вяземским»[545 - КВС. С. 311 (письмо от 26 июня 1840 года).].
Но самый неожиданный отзвук юбилейных куплетов прозвучит десять лет спустя. М. И. Калинин, бывший учитель из Пермской губернии, ввел в свой очерк об этом крае сцену, произошедшую, по его утверждению, когда он, недавний петербургский студент, ехал к месту своей службы. Это было вскоре после крыловского юбилея. В сорока верстах от Чердыни он знакомится со стариком, бывшим ямщиком, который, пока не ослеп, увлекался чтением и особенно полюбил Крылова. «Почти все басни затвердив наизусть», он не раз горячо спорил с чердынским священником, смевшим утверждать, что творчество русского баснописца «подражательно». Своего собеседника молодой человек почтительно именует дедушкой и, видя его любовь к Крылову, рассказывает ему о юбилейном празднике. Услышав стихи Вяземского, пишет Калинин, «поклонник Крылова зарыдал от умиления и раз пять повторил с особенною энергиею: здравствуй, дедушка Крылов!..»[546 - Калинин М. Чердынь. Статья первая // Иллюстрация. 1848. № 10 (13 марта). С. 156. М. И. Калинин – в 1839–1842 годах учитель русского языка в Чердынском уездном училище.]
Трудно судить о достоверности этой сцены, но образ грамотного простолюдина, несомненно, придает колорит очерку, посвященному описанию столь глухого, поистине медвежьего угла. Имя Крылова здесь выступает едва ли не шиболетом, паролем между сословиями. Учителю и ямщику оно позволяет найти общий язык и тему для беседы, а «дедушка», рыдая над стихами о «дедушке», отчасти проецирует на себя славу великого баснописца.
9
Молчание юбиляра. – Скандальные обертоны праздника. – Нервозность Уварова. – Недовольство друзей vs. ликование Вязем?ского
Многое в церемониале сближало крыловское торжество с праздниками в честь заслуженных врачей, а великолепия и официального почета там было гораздо больше, однако в глаза бросается важное отличие – Крылов в основном молчал. Потом он в свойственной ему иронической манере жаловался, что не смог как следует поесть, потому что «все время кланяться и благодарить приходилось»[547 - КВС. С. 277.]. Действительно, баснописец приветливо кивал «на все стороны» при исполнении куплетов, улыбался дамам[548 - Звездочка. С. 58–59. М. Ф. Львова писала в упомянутом выше стихотворении: «Теперь его златая лира / Молчит в шуму людских страстей. <…> / Она как будто отдыхает, / Застенчиво хвалам внимает, / Улыбкой платит им порой, / Приятным взором награждает, / И только шуткою одной / Благодарит – и отвечает» (ОР РНБ. Ф. 542. № 914. Л. 6 об.)], прослезился, слушая обращенные к нему спичи и дифирамбы, но никакой ответной речи так и не произнес[549 - Ср. ответное слово Рюля: «…выражение его благодарности было сильно: казалось, что почтенный старец хотел вдруг высказать все, что чувствовало благородное его сердце. Нельзя забыть, чем он кончил свою речь. „Желаю, – сказал он, – чтобы Всевышний судил каждому из любезных моих товарищей дождаться подобной радости на вечере жизни“» (цит. по: А. Н. [Никитин А. Н.] Письмо к приятелю в деревню о праздновании пятидесятилетнего юбилея г-на тайного советника лейб-медика И. Ф. Рюля. С. 664).].
Крылов присутствовал на празднике Загорского и наблюдал чествование Брюллова в Академии художеств, то есть имел представление о том, как проходят подобные торжества. Однако появление утром 2 февраля письма от Греча должно было его насторожить. Поздравляя баснописца, Греч извинялся, что в связи с «расстройством здоровья, причиненным жестоким огорчением», не сможет присутствовать «на обеде, который дают вам ваши благодарные читатели»[550 - Сб. 1869. С. 309.].
Тревога поэта еще усилилась после визита Булгарина, который приехал сообщить, что организаторы юбилея оскорбили Греча, отняв у него идею, и потому оба они, не желая терпеть унижение, вынуждены отказаться от участия[551 - [Греч Н. И.] Почему Греч и Булгарин не были… С. 202.]. Осознание того, что через несколько часов ему предстоит стать центром весьма необычного культурного события с заведомо скандальным оттенком, Крылова отнюдь не обрадовало. Плетневу запомнились его слова, произнесенные при отбытии на праздник:
Знаете что <…> я не умею сказать, как благодарен за все моим друзьям, и, конечно, мне еще веселее их быть сегодня вместе с ними, боюсь только, не придумали бы вы чего лишнего: ведь я то же, что иной моряк, с которым оттого только и беды не случалось, что он не хаживал далеко в море[552 - КВС. С. 225.].
Опасения подтвердились, едва он вошел в обеденную залу. Собрание практически всех государственных сановников уподобило происходящее придворной церемонии, центром которой мог быть только государь; лавровый венок дополнительно придал всему действу сходство с коронацией. Столь явное насыщение литературного юбилея политической образностью поставило виновника торжества в затруднительное положение и, в сущности, лишило его возможности говорить. Перед подобным собранием он не мог бы произнести благодарственную речь, адресованную коллегам по цеху, как делали на своих юбилеях врачи. Еще менее уместным было бы его обращение к министрам и членам Государственного совета, не говоря уже о нации в целом, хотя в речах на обеде многие говорили о национальном значении юбилея баснописца. В такой ситуации Крылову оставалось только молчать.
В этом ярко выразилось отчуждение самого юбиляра от праздника, устроенного в его честь. Сидя напротив своего мраморного бюста, словно напротив прижизненного памятника, «он перенесся заживо в потомство и видел предназначенное ему место в веках»[553 - Булгарин. Взгляд. № 9. С. 35.]. На собственном юбилее живой Крылов, пожалуй, играл роль не большую, чем этот бюст[554 - О смерти в парадоксальной связке с его высшим торжеством говорил и сам Крылов. Если верить воспоминаниям Булгарина, на следующий день после юбилея он имел разговор с баснописцем, и тот заметил: «Не думал и не гадал я, когда написал первые мои басни, чтоб они повели меня так высоко!.. Если это слава… то, воля твоя… а она очень приятна… Никогда не испытывал я подобного чувства, как вчера… Мне даже хотелось умереть…» (Там же).]. Он и его творчество оказались лишь поводом для «великолепного патриотического обеда»[555 - РИ. 1838. № 31 (4 февраля). С. 122.], истинный смысл которого состоял в постулировании единства между властью и словесностью. «В лице Крылова государь наградил всю русскую литературу», – этот вывод, сделанный через несколько дней «Северной пчелой»[556 - СПч. 1838. № 32 (8 февраля). С. 125.], очевидно, и следует считать наилучшим резюме юбилея.
Воспоминания подавляющего большинства современников рисуют вполне благостную картину праздника. Однако он завершился эксцессом, который свидетельствовал о создавшемся в ходе подготовки огромном напряжении.
Когда встали из?за стола, подвыпивший действительный статский советник Карлгоф подошел к сотруднику нашему Полевому и сказал ему: «Явился, подлец, когда приказали». Полевой, бесчиновный литератор, проглотил обиду, не сказав ни слова[557 - Греч Н. И. Юбилей Крылова. С. 627.], —
такое описание происшествия оставил Греч, узнавший о нем, скорее всего, от самого Полевого. Оскорбление редактора «Северной пчелы» он, несомненно, принял и на свой счет. Брат Полевого Ксенофонт в своих воспоминаниях утверждал, что Карлгоф пытался даже броситься на своего врага, но его удержали другие участники праздника[558 - Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб., 1888. С. 414.].
Для Карлгофа это был особенный день: заботливая жена записала, что он впервые надел фрак, то есть из военной службы перешел в статскую[559 - [Драшусова Е. А.] Жизнь прожить – не поле перейти. Записки неизвестной // РВ. 1881. № 10. С. 728.]. Участие в подготовке юбилея стало его дебютом как чиновника по особым поручениям. В организационном комитете он как лицо, приближенное к министру, скорее всего, играл роль личного представителя Уварова и более детально, чем его сочлены, был осведомлен о перипетиях борьбы вокруг праздника.
Смена места службы заставила Карлгофа пересмотреть и некоторые личные отношения. Еще недавно он дружески принимал Полевого, но теперь приязнь сменилась враждебностью – ведь именно так относился к журналисту Уваров, его новый патрон. Для него Полевой был неблагонадежным литератором, чья репутация не соответствовала высокому патриотическому настрою торжества, к тому же ближайшим сотрудником фрондеров Греча и Булгарина[560 - После закрытия в 1834 году «Московского телеграфа» Полевой подвергался преследованиям Уварова до тех пор, пока Греч и Булгарин не приютили его в Петербурге. Присоединившись к ним, он перешел под покровительство Бенкендорфа – сильного врага своего гонителя. Об этих коллизиях см.: Велижев М. Чаадаевское дело: Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России. С. 353, 355.]. Присутствие Полевого на юбилейном обеде не могло не напомнить Карлгофу и о том, как зарождался и как был украден его замысел.
Но едва ли не больше всех в тот день волновался Уваров. Вернувшись домой, он немедленно составил всеподданнейшее донесение с кратким отчетом о юбилейном обеде. В его изображении все прошло в высшей степени благопристойно:
Праздник, данный в честь Крылову, имел полный успех. Когда по прибытии моем я от имени Вашего Императорского Величества вручил ему грамоту и орденские знаки, то почтенный старец по прочтении оной был тронут до слез, и все присутствующие разделили его восторг. За обедом, в коем участвовали 205 человек, замысловатые куплеты князя Вяземского, при сем подносимые, сопровождаемые прелестною музыкою графа Виельгорского, произвели общее восхищение. Тосты были питы в надлежащем порядке и с приличными приветствиями. Наконец, что более всего заслуживает внимания, это многочисленное разнородное общество не выступило ни на шаг из границ благовоспитанного порядка и, невзирая на то, что каждый из участвующих был подписчиком наравне с другими, замечательны были уважение к старшим и вместе с порывами необыкновенного энтузиазма общее до конца благоустройство.
О сих обстоятельствах считаю должным довести всеподданнейше до сведения Вашего Величества.
Сергей Уваров[561 - РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. № 6202. Л. 1 – 1 об. В подтверждение своих слов министр приложил к записке печатный экземпляр куплетов и список тостов; на записке канцелярская помета: «Государь император изволил рассматривать в Санкт-Петербурге 3 февраля 1838 года».].
Нервозность министра весьма выразительна – не только в свете его конфликта с Бенкендорфом, но и, не в меньшей степени, при сопоставлении с европейским, в особенности французским контекстом. Уварову, несомненно, была памятна «банкетная кампания» в честь оппозиционных депутатов, предшествовавшая Июльской революции. А ко второй половине 1830?х годов политические банкеты во Франции окончательно стали формой выражения левых взглядов, иногда весьма радикальных, и надежным средством мобилизации общественного мнения[562 - О том, как это происходило, в том числе о значении тостов и практике их произнесения, подробно рассказано в монографии Венсана Робера «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)» (М., 2019; пер. с франц. В. А. Мильчиной).]. Хотя политическая культура николаевской России была, казалось бы, от этого предельно далека, Уваров видел в русских литераторах среду ненадежную, легко перенимающую опасные западные веяния. Неудивительно поэтому, что малейший намек на корпоративную солидарность и независимость оценок, пусть даже в чисто литературной сфере, воспринимался им как предвестник политической бури, подобной той, что во Франции привела к революции. С этим, по-видимому, и связаны его повторяющиеся с навязчивостью заклинаний уверения в ультралояльности прошедшего торжества.
Между тем оппозиция крыловскому празднику все-таки существовала. В ближайшем дружеском кругу баснописца на официозный юбилей, организованный наспех, с вымышленным семидесятилетием и яростной подковерной борьбой, отреагировали грустной иронией. Свидетельство тому – процитированный в качестве эпиграфа к этой главе юмористический адрес, копия которого сохранилась среди бумаг Олениных[563 - См.: ОР РНБ. Ф. 542. № 509. Адрес впервые был напечатан В. Ф. Кеневичем по ныне утраченному оригиналу (Сб. 1869. С. 310–311). Отмечая, что это «письмо» написано женской рукой, исследователь констатировал, что авторство текста он определить не смог. «Одно только узнали мы наверное, что оно вышло не из семейства А. Н. Оленина», – писал он. О существовании копии в архиве Олениных ему, очевидно, не было известно.]. В нем Лев и Орел от имени других зверей и птиц – героев басен Крылова приветствуют своего создателя, «узнав, что ныне другими животными (то есть людьми) празднуется в 69?й раз» день его рождения. Вскользь заметив таким образом, что им, в отличие от организаторов юбилея, известен истинный возраст баснописца[564 - Судя по всему, члены комитета сознавали фиктивный характер «70-летия». Характерно, что Вяземский в 1845 году, работая над статьей о Крылове, будет задаваться вопросами: «Сколько ему было лет? Где родился?» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 658а. Л. 16). Версия о том, что Крылов родился в 1769 году, восходит к его близким. Она подтверждается челобитной матери и письмом брата Льва (Сб. 1869. С. 295, 336). Эта дата противоречит и официальным биографиям, и формулярным спискам, а значит, только сам Крылов мог сообщить ее своим ближайшим друзьям.], они обещают когда-нибудь устроить для него настоящий, веселый и непринужденный праздник, не похожий на тот, что был дан людьми. Этот воображаемый юбилей должен обойтись
без кровопролития и, следственно, без обеда; но на сем празднике избранные умнейшие звери будут говорить с вами и между собою если и не такими стихами, как ваши, то по крайней мере хорошими <…> между тем, на хорах из ветвей соловьи в свою очередь будут воспевать своего любимого певца, а ослов (и это всего труднее) мы заставим молчать.
Наиболее вероятно (вопреки мнению В. Ф. Кеневича, публикатора этого текста), что авторами адреса все-таки были члены семьи Оленина и его домочадцы. Он отсылает, с одной стороны, к реалиям празднества 2 февраля (зал с хо?рами, помпезный обед, «кровопролитие» как метафора резких стычек), с другой – к текстам Крылова и, видимо, к шуточному обиходу этого круга, где, в частности, было принято отмечать день рождения хозяйки театрализованными забавами. Оленин, на которого Уваров возложил обязанности председателя организационного комитета, исполнил все, что от него требовалось, но характерно, что, открывая торжество в Дворянском собрании, он промолчал о пресловутом 70-летии со дня рождения и упомянул только о 50-летии литературной деятельности Крылова. Весьма скептически оценили «звери» и стихи, звучавшие на юбилее. В литературных кругах, и уж тем более в доме Оленина не забыли, как в свое время Вяземский ставил Крылова-баснописца ниже своего кумира Дмитриева; недаром и пятнадцать лет спустя злые языки применяли к этой коллизии крыловскую басню «Осел и Соловей», отождествляя Вяземского с Ослом[565 - Прямой реакцией на статью «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» считается басня «Прихожанин» (1823), тогда как басня «Осел и Соловей», напечатанная еще в 1811 году, к Вяземскому отношения не имеет (см.: Сб. 1869. С. 78). Однако она так прочно ассоциировалась с Вяземским, что в 1837 году была пересказана в посвященной Крылову главке книги Генриха Кёнига Literarische Bilder aus Russland (Stuttgart, 1837. S. 88) с указанием на Дмитриева и «одного преданного сему последнему критика».].
Сам же князь был чрезвычайно доволен и вдохновлен успехом праздника. На следующий день в письме к Булгакову он разливался бу?квально соловьем:
Крыловское празднество нам очень хорошо удалось материально и спиритуально в обоих смыслах вина и ума. Все остались сыты и довольны, а Крылов по уши сыт. Перед обедом Уваров привез ему второго Станислава и весьма лестный рескрипт. Более двухсот человек сидело за столом: вся почетная литература и чиновность: граф Новосильцев, Канкрин, Чернышев, Бенкендорф + + + Мои куплеты и музыка Вьельгорского очень понравились; их три раза повторили и пили за здоровье автора и композитора. В довершение празднества и торжества Греч и Булгарин отказались участвовать, признаваясь таким образом, что между порядочными людьми им не место[566 - РГАЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 32. Л. 152 – 152 об. К письму были приложены тексты речей и куплетов с просьбой показать все это Баратынскому. Тот, со своей стороны, живо интересовался юбилеем и просил своего приятеля и родственника Н. В. Путяту: «Пришлите мне куплеты Вяземского, петые на празднике, данном Крылову» (Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 344).].
10
Освещение в прессе. – Демарш Греча. – Травля
Юбилей Крылова получил невиданно широкое отражение в печати. Отчеты о нем помести?ли все ведущие русские газеты, выходившие в столице: «Русский инвалид» (4 и 5 февраля. № 31 и 32) и еженедельные «Литературные прибавления» к нему (5 февраля. № 6), «Санкт-Петербургские ведомости» (5 февраля. № 29), «Северная пчела» (8 февраля. № 32)[567 - Отчет, представлявший собой перелицовку материала «Санкт-Петербургских ведомостей», напечатали также «Московские ведомости», снабдив его заголовком «Праздник русской словесности» (1838. № 13 (12 февраля). С. 103–104).]. Крохотную заметку напечатала «Художественная газета» Кукольника, посулив читателям в скором будущем «особую статью об этом важном празднестве» с приложением гравюры с некоего нового портрета Крылова, нарисованного карандашом с натуры «одним из отличнейших наших художников» (№ 3 за 15 февраля, цензурное разрешение от 23 февраля [sic!]). Спустя некоторое время к ним присоединились журналы: «Сын Отечества и Северный архив» (1838. Т. 2. № 3; цензурное разрешение от 15 марта), «Современник» (1838. Т. 9. цензурное разрешение от 29 марта, статья П. А. Плетнева) и «Журнал Министерства народного просвещения» (1838. Ч. 17. № 2; статья Б. М. Федорова).
На освещение этого события было обращено особое внимание Уварова: все материалы просматривались им лично[568 - Факсимиле соответствующего предписания для цензоров от 3 февраля 1838 года см.: Иван Андреевич Крылов в портретах, иллюстрациях, документах / Сост. А. М. Гордин. М.; Л., 1966. С. 146. Собственноручная правка министра и его помета «Печатать. Уваров» имеются на автографе статьи А. А. Краевского «Пятидесятилетний юбилей И. А. Крылова» (ОР РНБ. Ф. 391. № 904. Л. 1–2). Статья вышла в «Литературных прибавлениях…» (1838. № 6 (5 февраля). С. 118; без подписи).]. Заботясь о создании максимально благоприятной картины курируемого им юбилея, он вместе с тем счел необходимым воспользоваться возможностями своего положения и свести кое-какие счеты.
Напомним, что Греч пытался организовать праздник в обход Уварова, чем спровоцировал обострение его отношений с Бенкендорфом. Со своей стороны, исключив Греча из списка организаторов, Уваров, видимо, ожидал, что тот просто смирится. Тем сильнее вывело его из себя поведение журналиста в последние дни перед празднеством.
29 января Греч получил от Жуковского письмо с поручением пригласить на «литтературный пир» знакомых ему писателей[569 - Текст письма см.: Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 113–114. Из тона письма следует, что Жуковский не знал о том, что инициатива юбилея в действительности принадлежала Гречу.] – очевидно, сотрудников «Северной пчелы» и «Сына Отечества». К этому прилагались подписной лист и тридцать билетов. На Греча, таким образом, возлагалась немалая ответственность – обеспечить присутствие на празднике примерно десятой части гостей. «Это меня взбесило, – вспоминал позднее Греч. – Устранили учредителей юбилея от участия в нем и еще дразнят»[570 - Греч Н. И. Юбилей Крылова. С. 625.]. Неудивительно, что в тот же день он ответил Жуковскому подчеркнуто вежливым, но явно недружелюбным письмом:
Милостивый государь
Василий Андреевич!
Ваше Превосходительство почтили меня письмом от нынешнего числа с приложением подписного листа на обед, который дают И. А. Крылову, и 30 билетов. Не имея случая раздать сии билеты и находясь в невозможности, к крайнему моему сожалению, участвовать в сем празднестве, принимаю смелость препроводить к Вам обратно и лист, и билеты, с выражением искреннего почтения и совершенной преданности, с коими имею честь пребыть
Милостивый государь
Вашего превосходительства
всепокорнейшим слугою
Н. Греч[571 - ОР РНБ. Ф. 539. № 1595 (копия – об обстоятельствах ее появления см. ниже).].
Вернув все билеты, Греч тем самым дал понять, что и он сам, и Булгарин отказываются принимать участие в празднике. Разумеется, это не был выпад в адрес Крылова; оскорбленные журналисты метили в Уварова, похитившего их идею.
В его руках бывшая общественная инициатива неизбежно приобрела официозный характер. Речь уже не шла о единодушии литературной корпорации, чествующей своего патриарха. Теперь торжество было призвано являть сплоченность другого рода – в лояльности прежде всего самому министру. Присутствие на празднике всех без исключения «словесников» демонстрировало бы эту управляемую квазикорпоративность, но демарш самых известных столичных журналистов угрожал столь эффектному замыслу.
Высокие ставки игры – на предстоящее событие было обращено внимание самого государя – вынудили Уварова скрепя сердце обратиться к Бенкендорфу с просьбой найти управу на смутьянов. Но даже категорическое требование шефа жандармов, переданное Гречу и Булгарину через Дубельта[572 - Встречающиеся в исследовательской литературе утверждения о том, что Николай I лично требовал присутствия всех литераторов на крыловском обеде, основываются на записке Греча, в которой говорилось: «Накануне празднества Булгарин вызвал Греча из Михайловского театра и объявил ему о сообщении воли государевой [зачеркнуто: объявил ему, что генерал Дубельт приезжал к нему и объявил волю государя], чтобы все литераторы участвовали в завтрашнем празднике» ([Греч Н. И.] Почему Греч и Булгарин не были… С. 202). Следует иметь в виду, что записка носит оправдательный характер и Греч в ней склонен преувеличивать давление, которому подвергался.], не смогло ничего изменить. В итоге оба все-таки отсутствовали на празднике, и это, разумеется, не осталось незамеченным.
Анализ публикаций, связанных с юбилеем, свидетельствует об исключительном положении, предоставленном газете Воейкова «Русский инвалид». Она первой поместила отчет о торжестве. Были в полном объеме перепечатаны все речи и стихотворения, прозвучавшие на празднике (то есть все, что входило в брошюру «Приветствия, говоренные…», вплоть до перечня музыкальных пьес), и еще несколько материалов: пространная «Запоздалая речь Русских Инвалидов И. А. Крылову», сочиненная Скобелевым (под псевдонимом «Русский Инвалид», с датой «3 февраля 1838 г.»), поздравительные стихи Р. М. Зотова «Нашему поэту-ветерану Ивану Андреевичу Крылову. При праздновании 50-тилетия его славы» и заметка сотрудника Публичной библиотеки И. П. Быстрова об истории басни «Волк на псарне»[573 - РИ. 5 февраля. № 32 (1838). С. 127–128. Стихи Зотова были приведены в газете по отдельному изданию-листку, изящно отпечатанному в типографии Смирдина. Оно получило цензурное разрешение в день праздника, и, по-видимому, раздавалось гостям на обеде. Такой листок приплетен к брошюрам «Приветствия, говоренные…» из собрания РНБ и из библиотеки Жуковского, хранящейся в Томском университете.]. Еженедельным «Литературным прибавлениям к „Русскому инвалиду“» досталось право перепечатки стихотворений Вяземского и Бенедиктова и публикации «Лаврового листка» Гребенки – но не текстов приветственных речей. Попытка издателя «Прибавлений…» А. А. Краевского воспроизвести их в составе своего отчета натолкнулась на прямой запрет Уварова[574 - Беловая рукопись отчета заканчивается словами о приводимых ниже «речах и стихах, сочиненных для сего незабвенного праздника». Эта концовка была вычеркнута Уваровым (см. ОР РНБ. Ф. 391. № 904. Л. 2). В ходе цензурования этого материала у Жуковского по какой-то причине сложилось впечатление, что в его приветствие Крылову были внесены изменения, и он пришел в негодование. Одоевский «под диктовкой» поэта писал Краевскому: «Если есть <…> хоть малейшая перемена, то он требует, чтобы речь его отнюдь не была напечатана». Краевский отвечал: «Министр не позволил печатать ни одного приветствия. Я перепечатываю только стихи, помещенные в нынешнем [от 4 февраля] нумере „Инвалида“. <…> Это я узнал сейчас только от Никитенка, которому С. С. Уваров переслал нашу статью» (ОР РНБ. Ф. 539. Оп. 2. № 641. Л. 40, 39 об.). Выражение «наша статья» позволяет предположить, что отчет для «Литературных прибавлений» был коллективным произведением.].
Статья о юбилее, написанная Гречем[575 - [Греч Н. И.] Почему Греч и Булгарин не были… С. 203.] со слов кого-то из присутствовавших (скорее всего, Полевого), смогла увидеть свет в «Северной пчеле» лишь на шестой день после праздника – 8 февраля. К ней прилагались стихи Вяземского, но ни речей, ни других приветствий, ни иных дополнительных материалов, за исключением рескрипта, газета не поместила. Нехарактерные для «Пчелы» медлительность и скудость в освещении столь важного события, по-видимому, объяснялись тем, что министр-цензор намеренно задерживал ее материалы.
Более того, Уваров способствовал возникновению публичного скандала. Просматривая статью Воейкова, предназначенную для «Русского инвалида», он не стал вычеркивать оттуда следующий пассаж: «Из известных писателей не участвовали в сем празднике Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч и О. И. Сеньковский [sic!]». Сенковский и в самом деле не был на обеде, но воспользовался этим один Воейков, его личный враг. Нарочитая полонизация фамилии здесь не случайна: этот выпад звучал как прямое обвинение в попытке создания литературной фронды, причем с прозрачным намеком на нерусское происхождение всех троих «отщепенцев»[576 - Красочный рассказ Панаева о том, как Воейков за свою «смелую выходку» был якобы на три дня помещен на гауптвахту (Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 114–115), не подтверждается другими источниками и, учитывая, что Воейков действовал с санкции Уварова, явно недостоверен. В нем, по-видимому, преломился реальный эпизод 1830 года, когда Воейков оказался на гауптвахте вместе с Булгариным и Гречем в наказание за участие в печатной полемике по поводу романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский».].
В освещении крыловского юбилея приняла участие и немецкоязычная St. Petersburgische Zeitung. Хотя газета, в которой сотрудничали петербургские немцы-литераторы, несомненно, имела возможность подготовить и поместить оригинальный материал об этом событии, она ограничилась практически дословным переводом отчета «Русского инвалида», включая ошибку в возрасте юбиляра (72 года) и выпад против троицы отсутствовавших[577 - St. Petersburgische Zeitung. 1838. № 29 (5/17. Februar). S. 124 (с указанием на источник: «Р. И.»). В № 31 (8/20 февраля) был помещен перевод рескрипта Крылову (S. 133). На этом фоне любопытна позиция, занятая официальной газетой Царства Польского, выходившей в Петербурге. Краткое сообщение о юбилейном празднике в честь Крылова появилось там 11 февраля (Tygodnik Petersburski. 1838. № 13 (11/23 lutego). S. 67). Оно представляло собой сокращенный пересказ того же материала из «Русского инвалида» (с повторением ошибочного указания на возраст баснописца – 72 года), но без финального упрека в адрес Булгарина, Греча и Сенковского. Учитывая, что двое из них были поляками, это выглядело как жест солидарности со стороны издателя газеты О. А. Пржецлавского.]. Напомним, что St. Petersburgische Zeitung, издаваемая Академией наук, находилась в орбите непосредственного влияния Уварова как ее президента.
Издатели «Пчелы» смогли ответить на обвинения только 8 февраля. В том же номере, где была опубликована статья о юбилее, появилась за подписью Греча следующая заметка:
В № 31?м «Русского инвалида», при описании торжества юбилея И. А. Крылова, имя товарища моего, Ф. В. Булгарина, и мое помещены в числе имен тех литераторов, которые не участвовали в торжестве. Это требует пояснения. Накануне торжества поручили мы А. Ф. Смирдину доставить нам билеты и отдали ему следующие за то деньги. На другой день г. Смирдин объявил нам, что все билеты уже розданы. Ф. В. Булгарин поехал к И. А. Крылову, чтоб объявить ему о том и поздравить его лично; я же, принужденный нездоровьем сидеть дома, исполнил этот приятный долг письменно. Мы участвовали в торжестве сердцем и душою[578 - СПч. 1838. № 32 (8 февраля). С. 127.].