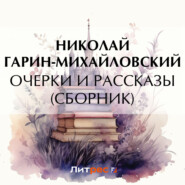По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Инженеры
Жанр
Серия
Год написания книги
1906
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дядя торжественно, по-архиерейски, благословлял племянника и усовещевал:
– Не топырься, не топырься! Все мы, голубчик мой, начинали с отрицанья бога, а кончали, как и ты в свое время кончишь, что без божьего благословенья ни от одного дела не будет толку.
Ровно в пять Карташев был на площади перед гостиницей.
Солнце, яркое и уже раскаленное, стояло над горизонтом. День обещал быть знойным. Но пока еще чувствовалась прохлада, и обильная роса еще сверкала на траве и деревьях, окружавших площадь.
У ворот гостиницы стоял дядя и наблюдал.
Худой инженер с черными огненными глазами уже был там. Он был еще мрачнее вчерашнего, быстро пожал руку Карташева и, махнув куда-то в сторону, буркнул:
– Познакомьтесь.
Карташев повернулся к группе рабочих человек в двадцать, с которыми о чем-то энергично переговаривался маленького роста господин с шляпой-панамой на голове, сдвинутой на затылок.
Господин повернулся, и Карташев увидел темное молдаванское лицо с маленькими лукавыми и веселыми глазенками.
– Ба! – добродушно и пренебрежительно сделал жест в воздухе господин в шляпе-панаме. – Карташев? Ну, здравствуйте.
– Знакомые? – спросил старший.
Маленький опять сделал пренебрежительный жест.
– До шестого класса в гимназии сидели рядом, пока меня не выгнали за то, что сказал учителю латинского языка, что его предмет яйца выеденного не стоит.
– А вы… Сикорский… – замялся Карташев. – Как же попали на наше инженерное дело?
Сикорский иронически усмехнулся и развел руками.
– Вот, как видите… извините, пожалуйста, тоже инженер, хотя и не признанный Россией, Турцией, Николаем Черногорским, Абиссинией и прочее и прочее. Кончил в Генте.
– Давно?
– Да вот уж два года.
– И на практике уже были?
– На постройке двух дорог уже начальником дистанции успел быть.
– Значит, вы совершенно опытный инженер, – обрадовался Карташев, – и меня выучите?
– А вы конечно, – ни папа, ни мама, ни бе, ни ме, ни ку-ку-ре-ку, как, бывало, по-латыни? Не конфузьтесь – имел честь достаточно познакомиться и с вашими дипломированными инженерами, и с вашими студентами. Господи, что это за лодыри, что за оболтусы! Прямо совестно, хуже всяких юнкеров. В девять часов он глаза продирает только, все в таких же лакированных сапожках, пенсне…
Сикорский рассмеялся мелким, замирающим смехом.
– Как они идут, бывало, получать жалованье, я всегда их спрашиваю: «Слушайте, вам не совестно?» Ай-ай-ай…
Сикорский раздраженно покачал головой.
Старший инженер, наклонив голову, неопределенно слушал. Он сделал нетерпеливое движение.
– Ну что ж не несут планы?!
И, быстро повернувшись в сторону Сикорского, угрюмо бросив: «Я сам пойду», решительно зашагал в гостиницу.
– Слушайте, – говорил Сикорский Карташеву, – зачем вы таким шутом нарядились? Может быть, для прогулок с дамами это и очень подходит, да и то не в такую жару, но как же вы будете по болотам шляться в ваших ботинках? По вашему костюму очевидно, вы никакого представления не имеете о том, что вас ждет?
– К сожалению, да.
Одетый в легкую чесунчевую пару, в парусиновых сапогах, Сикорский покачал головой и вздохнул:
– Боже мой, боже мой! Что только делается в этом государстве! До двадцати пяти лет людей, как малолетних, вымаривают, превращают их в каких-то институток, куколок и выпускают… вот…
Сикорский возмущенно хлопнул себя по бедрам руками.
– И что ж? – продолжал он. – Их ждет голодная смерть? Нет! Их ждет карьера. Будете, будете и главным инженером и министром… Тварь! Гадость!
Карташева коробил тон Сикорского, но над этим господствовало сознание, что Сикорский в сравнении с ним неудачник, что диплом иностранного инженера никогда его дальше начальника дистанции и не пустит и что он был бы только комичен среди настоящих инженеров со всеми своими претензиями.
Еще более было странно видеть Сикорского в этой новой роли обличителя, что воспоминания о нем из гимназии не вязались с этим.
Карташев помнил Сикорского, когда во втором классе его однажды привел надзиратель во время перемены и оставил его в классе.
Все ученики обступили маленького, черного, как жук, мальчика, с маленькими насмешливыми, вызывающими глазенками, смотрящими лукаво из-под полуопущенных век.
Он стоял у окна, окруженный толпой учеников. И эта толпа и новичок смотрели друг на друга, не зная, что предпринять дальше.
И вдруг новичок быстрым движением поймал муху на стекле окна и, сунув ее в свой рот, сжевал и проглотил ее.
– Фу!
– Гадость!!
– Тварь! – закричали все, отплевываясь, корчась и вертясь.
Так и осталось это чувство какой-то брезгливости к нему.
Опять потом выдвинулось в памяти событие: Сикорский сразу потерял отца и мать. Отца повесили за участие в убийстве жандарма, мать отравилась.
Это было в четвертом классе. Сикорский с братом остались без всяких средств, ему достали уроки, и он этим жил и содержал брата и друга своего старшего брата, тоже ученика, по фамилии Мудрого. Мудрый был очень ограниченный человек, таким же был и брат Сикорского. Оба последние были товарищами Тёмы по учению в четвертом параллельном классе.
Сикорский иронически называл Мудрого le plus sage[3 - самый мудрый (франц.).] – и брата le plus grand[4 - самый великий (франц.).], не стесняясь, ругал их в глаза и за глаза. Это ироническое отношение ко всему и ко всем было отличительной чертой Сикорского. В товарищеской жизни младший Сикорский не принимал никакого участия и не играл никакой роли. Но однажды в каком-то деле он пострадал, не протестуя против того, что пострадал несправедливо. Это вызвало к нему симпатии и уважение.
Произошло это уже в шестом классе, когда взапой читался Писарев, Шелгунов, Зибер, Щапов, Бокль, Милль и все старались жить по-новому.
Ко всему этому Сикорский был совершенно равнодушен. Тем более удивила всех его выходка с учителем латинского языка, когда он объявил, что принципиально не желает изучать такую ерунду, как латинский язык.
Реакция тогда уже надвигалась. Реакционный элемент торопился выслуживаться, и Сикорского исключили. Немного раньше, за какую-то скандальную историю в публичном месте, были исключены старший его брат и Мудрый.