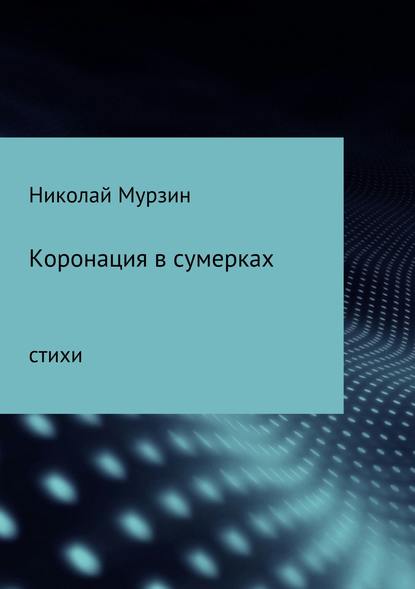По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Коронация в сумерках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Блеснул в них робко именем твоим,
А старый мир вокруг дышал на ладан
И отпускал тебя к мирам другим.
Ромео, бито все в твоей колоде.
Уж коли Бог управил, так на смерть.
Так тонут звезды в черном половодье:
Не вытянет их ангельская сеть.
В затмении прилежный живописец;
Он чувства тонкой кисточкой писал –
Но и к нему вдруг подступила близость,
Какую черт в огне не наплясал.
Искус, зачатье, жизнь. И ты, чье имя –
Святое млеко страждущим губам,
В морях гремящих, иль в горящем Риме –
Сними венец с измученного лба.
Пиши конец, невыдуманный нами.
Пронзенные сердца в тиши могил
Весною в буйстве роз встают, как пламя,
В дар жертвенный эфирности светил.
Не лучше ль безалаберное имя,
Подразниванья брата, кутежи…
Но слышно только шепоты глухие
Из-под земли: пиши, поэт, пиши.
В полях счастливых бегай, жеребенок,
Секи кремень копытом, как отец
Сечет ремнем родную плоть. Ребенок
Кричит. Помилуй нас. Аминь. Конец.
Улисс
Если бы скалы
Были воздвигнуты
В честь наших мертвых!
Если бы море
Было сплошным
Плещущим горем!
Если бы светоч,
В небе горящий,
Был чьим-то плачем!
Если бы сердце
Было способно
Стать вровень с миром!
Где ты, моя Лорелея, кому ты поешь
Нынче, когда облетели сады и земля холодна,
Где ты, печальный и призрачный мир, нагота у окна,
Вечно несмелая – пища фантазии, почва для грез?
Где ты? (Чьи стрелы коснутся оленей моих?).
Где ты? (Чьи руки удержат, когда я забьюсь
В черной падучей?). О, где ты в светлейший из дней моих, грусть –
День, что совсем без опаски я мог бы тебе посвятить?
Знаю, ответ этот – я, потому и пишу
Небу и морю, глубинам земли, возвращаясь к себе.