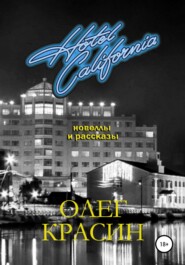По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Элегiя на закате дня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что хотел сказать ему Бог, о чем предупредить, чему помешать?
Много раз он мог погибнуть, исчезнуть, как исчезает былинка в бездне Вселенной, но Господь спасал его и охранял, точно зная, что предназначение Тютчева будет иным. Закрывая глаза и погружаясь во мрак сна, он пытливо всматривался в судьбу, чтобы найти ответ: в чем же оно, его предназначение? Где, в какой строке свитка вечности указано его точное время, расписан путь от рождения до последнего вздоха?
Однажды ему приснилось давнее путешествие из Мюнхена в Аугсбург, которое он проделал, будучи молодым. Жаркое лето в августе тысяча восемьсот сорокового, пассажирские вагоны, праздная, разодетая публика. Что-то отмечали тогда, кажется, годовщину открытия железной дороги.
Тютчев пригласил прокатиться с собой семейство Мальтицев. Барон Аполлоний Петрович служил первым секретарем дипломатической миссии в Мюнхене, а его жена баронесса Клотильда была родной сестрой первой жены Тютчева – Элеоноры. Их сопровождала горбунья, служащая у Мальтицев – маленькая, неприметная как мышка, женщина.
Веселой компанией они отправились по живописным местам Баварии, пили вино, заедали баумкухеном[8 - Baumkuchen (нем. дерево-пирог) – вид выпечки (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0), традиционный для Германии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F).], наслаждались беседой. Впрочем, отъехали недалеко, всего миль на пять. Они высадились на большой лужайке, где можно было погулять, послушать оркестр, купить дамам мороженое. Народу собралось много, поезда подвозили все новых и новых людей поодиночке и целыми семействами. Все хотели выбраться на пикник.
Тютчев увидел перед собой живое море – людские волны накатывали на зеленую лужайку, на окружающий лес, на чугунную дорогу. Море состояло из мужских голов в высоких цилиндрах и шляпах, и женских – в светлых летних шляпках с цветами, с перьями и без них. Немецкая публика важно фланировала по лужайке, раскланивалась, улыбалась, ела мороженое, пила сельтерскую воду.
Постепенно приближался вечер, но поезд, чтобы вернуться в Мюнхен, все не подавали. И вот здесь начался ужас. Он явственно помнил его, этот ужас, даже во сне. Было темно. Сгрудившаяся у железной дороги эти благовоспитанные и культурные немцы вдруг превратилась в колышущуюся, возмущенную, безжалостную толпу, выталкивающую случайных людей на рельсы.
Никто не хотел ночевать под открытым небом!
Тютчев чувствовал эти толчки, это жуткое давление. Его тоже подталкивали к рельсам, и в этом было нечто неотвратимое, страшное. Он силился проснуться, дабы не испытывать охватившее его ощущение обреченности и приближающейся смерти. Такое чувство, наверное, испытывали французские дворяне, когда жестокая якобинская толпа влекла их к гильотине.
Однако тягостный сон не прерывался. Упираясь ногами, Тютчев сопротивлялся толпе всеми силами. И все же, если бы паровоз в эту самую минуту подавал состав, то он, без всякого сомнения, очутился бы под колесами вагонов и был бы растерзан железным зверем, как жертвенный агнец, выданный всесильной судьбой на заклание.
Маленькую горбунью в потемках тоже вытолкнули вперед. Он услышал ее сдавленный всхлип и схватил женщину за руку, не давая инертной людской массе отторгнуть ее от себя. Он держал горбунью из всех сил, слыша чужое бормотание, неясные крики, тяжелые вздохи. В этой суматохе он утерял Мальтицев и не знал, что с ними, где они.
Кто-то решил, что стояние в неподвижной и угрюмой толпе занятие довольно веселое и потому запустил фейерверк. Огоньки, шипя и разлетаясь по сторонам, горячими брызгами резво взмыли в небо. Они осветили вокруг клейкую массу из бледных, прижавшихся к Тютчеву людей, похожих на остывшую манную кашу.
Все это виделось ему будто наяву: искаженное страхом голубое лицо горбуньи, и он сам, стоящий, словно в шаге от пропасти, у самых рельсов. При желании можно было поставить на них ногу. И он ставит, чувствует холод железа и это странно, поскольку ноги его одеты в кожаные туфли. Но холод пробирает до костей.
Покойная Элеонора улыбается, лениво прикрывая глаза. Она, едва заметная в сгущающейся темноте, кажется, едет в одном из вагонов, который медленно приближается к ним. Элеонора машет рукой, делает непонятные знаки, и он силится их разгадать: приглашает ли его первая жена к себе, в загробный мир, или гонит прочь, мол, еще не время.
О, это время! Его ничто не возвратит! Сколько людей дорогих и близких оно забрало с собой безвозвратно!
Сквозь тяжелые тучи вдруг прорывается лучик солнца. Элеонора с вагоном исчезает, и его кто-то берет за руку. В вечернем, сыром воздухе рука кажется необычно теплой. Поначалу он думает, что это служанка-горбунья. Потом, что это его приятель Аполлоний Мальтиц. Но оглянувшись, обнаруживает Лелю. В голове мелькает: «Что она делает здесь, в Мюнхене? И где Эрнестина?» В Мюнхене он с Денисьевой никогда не бывал. В этом городе он жил лишь с бывшей и нынешней женами: с Элеонорой и Эрнестиной.
Леля улыбается и ласково приглаживает растрепавшиеся волосы Тютчева, молчит, но это молчание красноречивее слов. Он чувствует исходящее от нее тепло любви и в груди его тоже теплеет; он уже не боится мрачной, угрожающей толпы на лужайке, не боится сумерек, несущих неизвестность, не боится, что придется штурмом брать вагоны, которые уже подает поезд, окутанный серым паром, будто старый курильщик.
Но в это самое время, пугающий сон прерывает бесцеремонный Щука, пришедший разбудить барина, и Тютчев молит в полусне: «Подожди, постой мгновенье! Дай еще побыть с Лелей там, на лужайке, в сумерках, освещенных ее любовью».
Роман поэта
Вскоре Тютчев снял комнату возле вокзала в Павловске, где уже никто не мешал им встречаться. Они любили гулять: уехать на извозчике куда-нибудь далеко, за город, чтобы случайно не встретить знакомых, и там без помех наслаждаться обществом друг друга. Бродили по зеленым лужайкам, выбирались в ухоженные петербургские парки, впрочем, избегая известных мест вроде Павловска или Петергофа.
Как-то прогуливаясь по дальним дорожкам, они попали под дождь. Тютчев был в сюртуке, на голове высокий черный цилиндр, а Леля надела легкую бежевую шляпку, которую дождь сразу намочил. Тютчев, улыбаясь и глядя в ее темные большие глаза, предложил вместо шляпки надеть его цилиндр. Она звонко расхохоталась: «Vous ?tes un farceur Monsieur Tutcheff[9 - Вы такой шутник, месье Тютчев (фр.).]!»
Она еще не говорила ему «ты», еще чувствовала себя неловко. А он сжал ее в объятиях, влажную, пахнущую дождем, травой, лесом и жадно целовал губы, ее лицо и глаза. Она шутливо отбивалась.
Потом настроение Лели резко менялось: она не хотела расставаться с ним, не хотела делить с другой, не хотела, чтобы он возвращался в чужой дом. Он же был только ее, неделим ни с кем, и она так и говорила: «Вы месье Тютчев, мой собственный!» На глазах ее выступали слезы, и она отворачивалась в сторону, не желая расстраивать Тютчева своим переменчивым настроением.
Но домой он все-таки возвращался. Вот и в тот день вернулся с прогулки весь мокрый, и Щука принялся снимать с него влажный сюртук. Рядом стояла Эрнестина, мудрая, добрая, понимающая; она всегда присматривала, чтобы камердинер вовремя обихаживал ее Теодора. А Тютчев смотрел на тяжелый от воды сюртук и на губах возникали слова, звучащие будто музыка, которые при желании, можно было бы напевать. Иногда они складывались в строчки, строфы, стихи, как о каплях дождя, похожих на слезы. Вроде тех, сочиненных им когда-то: «Слезы людские, о слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой…»
В это счастливое время – время всеобщего неведения, поскольку об их романе никто не знал, – они съездили втроем: он, Леля и его старшая дочь Анна в Валаамский монастырь. Романтичное ночное плаванье по Ладожскому озеру, счастливые взгляды Лели, которые она обращала на него – это было так поэтично, что если бы в эту минуту он находился один, то непременно написал бы пару строф на каких-нибудь листках, подвернувшихся под руку.
Дочь Анна, зачарованная природой, ничего не замечала. Как он бы хотел, чтобы все, кто любили его, всегда были рядом, дарили несказанное блаженство душе. В этом, конечно, было много от эгоиста, ибо эгоисты думают только о себе, но он не видел ничего плохого в своем желании. Никаких раздоров, склок, презрительных слов, искаженных гневом физиономий – только улыбающиеся лица, только счастье, только любовь, разлитая в воздухе.
Та, поездка на Валаам удалась, и Тютчев долго вспоминал ее с теплым чувством. Он снова ощущал подъем, экстаз поэтической мысли, его вновь как в молодости, когда жил в Баварии, охватило воодушевление. Теперь его, как и прежде, интересовало все: свои и чужие стихи, блестящие женщины, политика европейских государств. Он будто ожил на шестом десятке лет, и сердце вновь билось, уже не отсчитывая оставшиеся мгновения жизни, клонящейся к закату, а со светлой верой в будущее.
Иногда он с удивлением смотрел на себя. Приглаживая торчащие волосы, и беспокойно расхаживаясь по кабинету в одиночестве, вопрошал: «Разве я бестолковое существо, коих много в гостиных и салонах Петербурга? Разве я легкомысленный папильон[10 - Бабочка (фр.).], порхающий от цветка к цветку, в поисках наслаждений, пьяный от летних ароматов?» Нет, нет и нет! Он был серьезным человеком, семьянином, камергером двора его Величества!
И все же, Леля, и он это чувствовал, вернула его к жизни. Ее страсть, ее темперамент, ее молодые желания невольно передавались и ему – рассеянному старому ворчуну. Так любовь пела свою вечную песню, как поет вечную песню океан, обнимая землю.
Но была еще Эрнестина Федоровна, которую не сбросишь со счетов.
С женой Тютчев не хотел расставаться, поскольку, хотя и считал роман с Лелей Денисьевой, явлением замечательным, льстящим мужскому самолюбию, но все-таки явлением непродолжительным и неглубоким. Всем известно, что романы в этом возрасте только тешат тщеславие стареющих мужчин и ничего более – любовный корабль не может плыть под старыми дырявыми парусами.
Похоже, с этим была согласна и сама Эрнестина. «Я рассчитываю на окончание нового увлечения Теодора осенью», – сообщала она близкому другу семьи Вяземскому еще перед поездкой мужа на Ладогу в компании дочери Анны и мадемуазель Денисьевой. Сырая погода, общая вялость и тоска, распространяющаяся в это время, должны были потушить чувства мужа, как гасят тлеющие угли ведром воды. «Осенью все встанет на свои места», – надеялась она.
Вяземский обмолвился об этом Тютчеву. «Пожалуй!» – мысленно согласился тот, ведь он привык к жене, а привычка, писали древние, вторая натура. Ситуация очень напоминала его прежние отношения с Эрнестиной, сложившиеся при жизни первой жены Элеоноры. Как будто история повторялась спустя десятилетия, только теперь в роли жертвы измены выступала нынешняя супруга.
Он, Тютчев все это уже испытывал, переживал. Опять его ждало мучительное раздвоение и неуверенность. Опять предстояло жить с изматывающим лицемерием и терпеть слезы обманутой Эрнестины. А иногда и ронять свои.
Интерлюдия
Чтобы оправдать себя или извинить в глазах жены он начал проявлять внезапные и странные порывы нежности и внимания, которыми давно уже не одаривал Эрнестину Федоровну, ведь их дом, как заметила его старшая дочь Анна, стал cheerless[11 - Безрадостный, унылый (англ.)], и стал уже давно.
Он писал жене: «Милая моя киска», «Целую твои лапки», «Весь твой!», словно хотел отвлечь от тяжелых мыслей, задурив голову легкой и ни к чему не обязывающей болтовней. Но как же все сложилось неудобно, как запуталось! Тютчев таил в себе чувства к Леле и страдал от того, что ими нельзя было поделиться с близким другом, с женой Эрнестиной.
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне.
Такие слова он писал в молодости, но время говорить откровенно не наступило и сейчас.
Тайна, которую трудно скрыть
Приближался выпуск из Смольного института, который по традиции всегда проходил в марте. На крышах таял снег, наполняя воздух звуками веселой капели. Лед на Неве сделался пористым и серым, поддаваясь теплому ветру; он таял по краям возле берегов, день ото дня, расширяя полосу чистой воды. Вокруг Смольного института снег уже убрали и только стройные деревья приветливо размахивали голыми руками веток.
К неординарному, памятному событию готовились все. Тютчев с удовольствием наблюдал приготовления дочерей, которые были выпускницами и с особым чувством отдавались наступающему празднику, находясь в восторженно-приподнятом настроении. Они шили новые платья, украшали прически высокими черепаховыми гребнями. Ко всему прочему Совет Императорского Воспитательного Общества за хорошую учебу и примерное поведение намеревался поощрить девиц Тютчевых – Дарью золотой медалью, а Катю серебряной.
Среди этого цветника Леля порхала как веселая птичка, а лицо ее тетки инспектрисы Анны Дмитриевны, чей класс выпускался, сделалось строгим и значительным, каким и подобает быть лицу воспитателя в особо торжественных случаях. Она даже помолодела на время от свалившихся приятных забот. В душе тетушка надеялась получить орден святой Екатерины – стать кавалерственной дамой, и, пользуясь милостями императрицы Александры Федоровны, попросить за племянницу.
Молодой Денисьевой, по мнению Анны Дмитриевны, вполне можно было подумать о звании фрейлины при дворе: звание ответственное и почетное, и потом, это означало быть на виду у августейшей фамилии. Опять же можно составить блестящую партию. Как известно, государь щедро награждал фрейлин, когда те выходили замуж, а если они при этом были его фаворитками, то и говорить нечего!
С Тютчевым инспектриса всегда вела себя уважительно, порою даже подобострастно. В ее глазах камергер императорского двора представлялся фигурой, в высшей степени, светской и влиятельной, который мог замолвить словцо в высших сферах, в особенности перед великой княгиней Еленой Павловной[12 - Вел. Кн. Елена Павловна (1807–1873гг.) –супруга великого князя Михаила Павловича (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), благотворительница, государственный и общественный деятель, известная сторонница отмены крепостного права (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) и великих либеральных реформ (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II).], покровительницей Смольного.
За эту подобострастность Леля не раз пеняла тетке. Знала ли Анна Дмитриевна о возникшем романе между племянницей и светским львом Тютчевым? Она знала, но закрывала глаза, ибо таких увлечений на ее веку было предостаточно. Она считала возникшую любовную интригу несерьезной забавой, сиюминутным развлечением, которое, не успеешь оглянуться, как наскучит обоим.
Но… Леля забеременела и это серьезно все осложнило. Оставалась лишь призрачная надежда, что под кринолином, под широкими платьями, никто не заметит выросший живот – выпуск предстоял в марте, а рожать в мае.