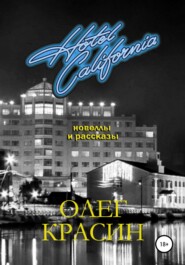По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Элегiя на закате дня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Боже мой! Боже мой! – переживала тетка, глядя на племянницу, томимая нехорошим предчувствием. – Леленька, как же так можно? Ты совсем потеряла голову! Ты навлечешь позор на себя, попомни мои слова.
– Oh maman, mais je l'aime![13 - Ах, мама?, но я же его люблю! (фр.).] – отвечала Денисьева, блестя глазами. Она была счастлива.
– Но отчего Федор Иванович не жениться на тебе? Этот шаг достойный благородного человека, он сразу разрешил бы все твои заботы.
– Никак невозможно, тетя, – медленно отвечала племянница, подбирая слова, – Федор Иванович мне все объяснил. Он женат уже третьим браком, а церковь не разрешает четвертый брак, ты же знаешь.
– Бедное, бедное мое дитя! – сокрушалась тетка и, прижав голову Лели к своей теплой груди, гладила ее морщинистой рукой, словно предвидя все беды и напасти, какие обрушаться на голову ее Леленьки.
В эти дни Анна Дмитриевна сторонилась Тютчева, считая его полностью виноватым, ведь человек в его возрасте и положении должен рассчитывать последствия своих дурных поступков. А Федор Иванович, оповещенный о грандиозных планах инспектрисы, которым он невольно воспрепятствовал, переживал и молил Бога, чтобы все прошло благополучно: и беременность Лели, и выпуск институток.
– Леля, что же нам делать? – растерянно вопрошал он.
– Все обойдется, я уверена! – спокойно отвечала Елена Александровна, – ты не представляешь, как я счастлива.
Она невольно положила руки на круглый живот, и Тютчев, больше проникаясь нежностью к ней, чем к будущему ребенку, попросил:
– Если будет девочка, я хотел бы, чтобы ее тоже звали Лелей.
– А если мальчик, тогда назовет как тебя – Федором.
Он с легкостью согласился, но тревога в душе не улеглась – Леля была еще слишком молодой и неопытной в светских интригах, в запутанных отношениях, связывающих многие знатные семьи. Она не представляла, как зло и жестоко может наказать свет за пренебрежение к установленным правилам.
Тютчев осторожно погладил ее живот, впрочем, без особых эмоций на лице и Леле показалось, что он не очень-то и хочет ребенка. Конечно, зачем ему, если от других жен у него уже есть дети обоего пола и их много, а ведь еще требуется всех содержать в приличном достатке. Но неужто расходы на ее дитя лягут на него большим бременем? Она же никогда ничего не просила! Только любви его сердца! Только душевного тепла!
Все это выглядело очень обидным и Леля, чтобы скрыть набежавшие слезы, отошла к деревянной колыбели, купленной недавно у старого плотника, жившего на соседней улице. Однако она, на самом деле, еще мало знала Тютчева. Не только ей, но и всем представлялось, что к маленьким детям, в том числе и своим, он был холоден, как зимнее солнце, почти равнодушен. Тютчев любил блистать, а как можно блистать перед детьми? Им ведь нельзя показать ни глубину своего ума, ни обсудить с ними высокую политику, ни бросить забавную шутку.
Когда старшая дочь Анна его упрекнула в этой удивительной отстраненности, он серьезно ответил: «Но они же дети». Оказывалось, что Тютчев нуждался в великосветском обществе, в ежедневном общении с посторонними, малозначащими для его жизни людьми, но к своим детям его ничуть не тянуло. И такая парадоксальность отца возмущала Анну. Однако он мог и бравировать перед дочерью нетривиальным подходом к семейным отношениям, чтобы умолчать об иной, утаиваемой им истине, поскольку: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои!»
Да, да, и с Анной, и другими дочерями он делился далеко не всем. Много позднее в разговоре с дочерью Машей он признается, что всегда стеснялся маленьких детей, ибо ему казалось, будто его рассуждения, его речи, его поведение, будут непостижимы для детского разума.
А быть непонятым для него – самая большая трагедия.
Интерлюдия
Несмотря на заботы, связанные с Лелей, с их волнующим романом, эта блестящая жизнь отвлекала его: рауты, балы, встречи, салонные беседы, разговоры о политике, сплетни – он забывался в бурных водах житейских историй и отношений, среди великосветских интриг, посреди осуждения или восхищения, которым его встречали.
Рассеянность его делалась притчей во языцех, забавные истории передавались из уст в уста, как смешные анекдоты, подобно анекдотам о Петре Великом или матушке Екатерине. Но ведь он еще не умирал, он еще не стал историей. И этом было новое, непривычное ощущение – чувствовать себя неким историческим персонажем среди современников.
Однажды в один из обычных зимних дней не занятых поездками на рауты и шумные балы, Тютчев в одиночестве прогуливался возле Михайловского замка. Мысли его были заняты состоянием цензуры в России, необходимостью ее смягчения. Этот вопрос намедни обсуждался им с Никитенко[14 - Никитенко Александр Васильевич (1804–1877гг.) – историк литературы, цензор с 1833 года.], который разделял взгляды Федора Ивановича. И вот, размышляя о сем важном предмете, он почувствовал, как кто-то бесцеремонно дергает его за рукав.
– Барин, барин, подайте ради Бога! Добрый барин!
– А? Что?
Он поворотился к нищенке. Грязная, худая рука выпросталась из-под дырявого платка, наброшенного на плечи. Немолодая женщина с исхудавшим лицом и тоскливыми глазами в драном салопе терпеливо переминалась с ноги на ногу.
– Детки есть у тебя? – вдруг спросил Федор Иванович, всегда избегавший разговаривать с нищими.
– А как же, барин! Трое ртов, как-никак. Мужик мой помер, вот и мыкаемся по людям.
– А, ну-ну!
Он порылся в кармане, ожидая нащупать денежки, но камердинер Тума, когда чистил платье, видимо, выгреб мелкие монетки. «Когда не надобно, Щука такой расторопный», – подумал Тютчев с раздражением. Немного поискав еще, Федор Иванович вытащил рубль серебром.
– На, голубушка, возьми! Только ты поди, обменяй, возьмешь себе пяток копеек, а остальное принесешь. Я здесь постою, подожду тебя.
Ветер, сырой и холодный, беспокойно трепал его седые волосы – он зачем-то снял шапку и держал ее в руке. Теплое пальто не спасало от промозглой погоды, от петербургской атмосферы, вызывающей у Тютчева содрогание, особенно в зимнюю пору. Он не любил это место, этот чиновный, каменный, угрюмый город и мог бы сравнить свою нелюбовь с ненавистью белки к колесу, которое та принуждена вертеть ежедневно. Колесо и столица были схожи, ведь в обоих случаях их нельзя было покинуть, по крайней мере, по своей воле.
Холод отвлекал, мешал думать. Федор Иванович сделал несколько шагов вперед, чтобы согреться. Снег, выпавший накануне, хотя и празднично искрился, однако противно скрипел под башмаками – его еще не успели его почистить и на тротуарах прохожие вытоптали широкие тропинки.
Пока не появилась нищенка Тютчев вновь заняться своими мыслями, только уже не о цензуре. Ему припомнился недавний разговор в Москве с мужем сестры Николаем Ивановичем Сушковым о стране, в которой они жили, о России. Тогда у них возник горячий спор по поводу ее истории, происхождении царской власти, о Смутном времени, поставившем Россию на грань катастрофы. Победы и поражения русских, по мнению Тютчева, зависели не от божьего промысла, не от выпавшего случая, а от вполне конкретных людей, от их намерений, от алчности или благородных порывов, присущих властителям. Сушков же считал иначе.
Тютчев надел шапку на замерзающую голову.
Он задумался о России, об огромной равнине, раскинувшейся между морями и горами, о суровом климате, жестких, неуживчивых людях. Именно в территории, в ее бескрайности и неоглядной шири, в ее непроходимых лесах и разливных реках виделись ему колоссальные беды, проистекающие для страны. Великая скифская равнина, на которой они жили, казалась ему непреодолимым препятствием ко всеобщему благоденствию и прогрессу.
В памяти внезапно возникло именно это слово – прогресс, хотя его и намерены были запретить к употреблению. Оно раздражало государя. Но дело состояло даже не в прогрессе, дело было в той исторической миссии, которая отведена России.
Миссия заключалась в объединении всего христианского мира на новых началах – добра и справедливости, а именно этой миссии препятствовало обширное пространство, дарованное то ли Богом, то ли добытое трудами неуживчивых предков. Слишком много сил приходилось тратить на эти холодные земли, слишком много жизней уходило, чтобы сохранить огонь в очаге.
Так мнилось ему, человеку, прожившему немалую толику жизни на тесном, ограниченном пространстве Германии, Франции и Италии, человеку, понимавшему западный мир изнутри.
– Федор Иванович, что делаете здесь в такую холодную пору? – кто-то окликнул его, – ждете кого?
Тютчев оглянулся. Похрустывая снегом, к нему приближался незнакомый мужчины, закутанный до подбородка в зимнюю шубу с бобровым воротником. Нищенки с серебряным рублем, конечно, простыл и след.
– Задумался, – рассеянно ответил Тютчев, приглядываясь к прохожему и не узнавая его.
Историю о пропавшем серебряном рубле Федор Иванович впоследствии поведал Эрнестине Федоровне и та, будучи хозяйственной и бережливой женой, с осуждением качнула головой, но по обыкновению промолчала. Да и что тут скажешь, если и в преклонном возрасте ее супруг продолжал оставаться наивным дитятей.
Скандал в Смольном
Эконом Смольного института Константин Гаттеберг, худощавый пронырливый субъект, потирая время от времени левую оплывшую щеку, сидел перед Марией Павловной Леонтьевой, директрисой, статс-дамой двора его Величества. Щека болезненно ныла. Огромный синяк сизовел во весь глаз, набирая цвет.
За спиной Леонтьевой высились два молчаливых камердинера, с которыми она почти не расставалась в течение дня; один из них держал в руках небольшую берестяную коробочку.
– Итак, сударь, что же случилось? – любопытствовала статс-дама, ощупывая своего эконома большими совиными глазами. Уже некоторое время она замечала, что с Лелей Денисьевой, племянницей ее уважаемой и старейшей инспектрисы Анны Дмитриевны, не все в порядке. Ей казалось, что фигура молодой Денисьевой несколько отяжелела, а живот подозрительно округлился. Леля порою делалась бледна, как смерть и часто покидала общество, ссылаясь на женские недомогания.
Но все женские недомогания были известны Леонтьевой наперечет, ее не проведешь! Уж она-то знает, в чем дело! Вероятно, Денисьева забеременела, ведь директрисе хорошо известны подобные истории – как-никак, а заведением она управляла без малого десять лет. Раньше таковые случаи разрешались быстро: находились женихи, играли свадьбы и fine della storia[15 - Конец истории (ит.).].
Теперь ей, уважаемой в свете, благопристойной даме, следовало выяснить, кто же стоял за легкомысленной интрижкой, кто будет готов принять на себя жертвенный венец жениха, чтобы спасти от бесчестья непорочную девицу. Она, мадам директриса, не позволит бросить пятно на вверенное ей заведение. Да что там пятно, даже тень от солнца!
Для этих, вполне разумных целей, преследующих в первую очередь нравственность, Леонтьева и отрядила своего эконома. К тому же, и это она знала достаточно хорошо, государь не терпел скандалов, не любил выносить сор из избы. Сам почти тридцать лет на престоле, а никто не мог бы его упрекнуть в непристойном поведении.
Мария Павловна внимательно рассматривала своего эконома.
Гаттенберг не вызывал у нее уважения. Нечистый на руку господин, постоянно получал нарекания, и особенно это касалось кухни – многие воспитанницы жаловались на скудное питание, на полуголодное состояние. Гаттенберг изрядно приворовывал. До нее доходили слухи, что одну из четырех дочерей эконом выдал замуж с приданым в сто тысяч рублей. Это были огромные деньги, невиданные для простого эконома, ибо сама Мария Павловна таких денег не имела, ведь ее жалованье было небольшим, всего четыре тысячи рублей в год.